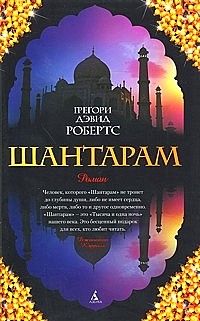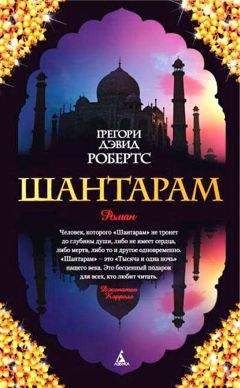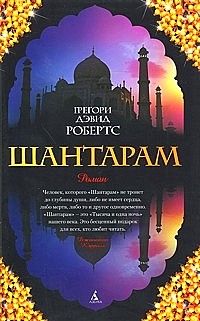— Деньгами ты распорядился грамотно, — заметил Абдулла с непроницаемым выражением, глядя вслед удаляющемуся автомобилю.
Вернувшись в квартиру, мы починили дверной замок, чтобы можно было спокойно оставить квартиру с запертой дверью. Абдулла позвонил кому-то из знакомых и договорился, что на следующий день сюда придут люди, распилят кушетку на части и вынесут их в мешках на помойку, а также отчистят ковер и приведут квартиру в порядок, устранив все следы проживания двух женщин.
Не успел он положить трубку, как телефон зазвонил. У его друга в Дадаре были новости для нас. Служащие гостиницы обнаружили Модену в номере и отправили его в больницу. Друг поехал в больницу и узнал, что больной и израненный пациент уже сбежал. Видели, как он вскочил в такси и умчался на полной скорости. Врач, осматривавший его, не был уверен, что Модена доживет до утра.
— Знаешь, что странно? — сказал я Абдулле, когда он сообщил мне это. — Я знал Модену довольно хорошо, встречался с ним в «Леопольде» раз сто, наверно… Но я не помню его голоса. Когда я пытаюсь вспомнить, как он звучит, у меня в голове не возникает никаких звуков — ну, ты понимаешь, что я имею в виду.
— Мне он нравился, — сказал Абдулла.
— Да? Ты меня удивляешь.
— Почему?
— Не знаю… — ответил я. — Он был такой… робкий.
— Он был бы хорошим солдатом.
Брови у меня полезли на лоб. Модена был, как мне казалось, не просто робким, а слабым человеком, и слова Абдуллы меня озадачили. Я тогда не понимал, что хороший солдат не тот, который может черт знает что натворить, а тот, который может все вытерпеть.
И когда все концы этой истории были увязаны или обрублены, когда Улла улетела в Германию, Лиза переехала на новую квартиру и все пересуды о Модене, Маурицио и Улле постепенно затихли, именно исчезнувший таинственным образом испанец вспоминался мне чаще всего. В течение двух следующих недель я сделал два «двойных перелета» в Дели и обратно, а затем слетал в Киншасу с десятью новенькими паспортами для помощников Абдула Гани. Но в гуще всех этих дел передо мной, как на экране, часто всплывало лицо Модены, привязанного к кровати и смотрящего на Уллу, которая уходила с деньгами, бросая его. Наверное, когда она вошла в комнату, он подумал: «Я спасен». Но что он увидел в ее глазах? Ужас, конечно, но что еще? Может быть, отвращение или что-нибудь еще более страшное? Может быть, она испытывала облегчение? Была рада избавиться от него? Я не мог представить, что он чувствовал, когда она отвернулась и вышла, закрыв за собой дверь и оставив его там.
В тюрьме я влюбился в актрису, которая участвовала в популярной телепрограмме. Она приходила к нам давать уроки актерского мастерства и руководила тюремным драмкружком. Мы, как говорится, нашли друг в друге родственную душу. Она была блестящей актрисой. Я был писателем. Я видел, как в ее движениях и жестах оживают придуманные мной слова. Мы говорили друг с другом на языке, общем для всех творческих натур, на языке ритма и вдохновения. Спустя какое-то время она призналась мне в любви. Я сразу поверил ей, и верю до сих пор. Несколько месяцев мы давали выход нашим чувствам, используя те крохи времени, которые удавалось урвать между занятиями драмкружка, и обмениваясь длинными письмами, переправляемыми через нашу подпольную систему тайной переписки.
Кончилось все плохо. Меня бросили в карцер. Не знаю, откуда тюремщики проведали о наших отношениях, но они сразу стали выпытывать у меня подробности. Они были в ярости. В том, что актриса в течение нескольких месяцев поддерживала связь с заключенным, они усматривали оскорбительное неуважение их авторитета и, возможно, унижение их мужского достоинства. Они избивали меня дубинками, кулаками и сапогами, требуя, чтобы я признался, что мы были любовниками, — тогда они могли бы выдвинуть против нее официальное обвинение. На одном из допросов они предъявили мне ее фотографию, рекламный кадр, который они нашли в помещении драмкружка. Они сказали мне, что я должен всего лишь кивнуть, и тогда они перестанут избивать меня. «Только один кивок, и все твои мучения кончатся, — кричали они, держа фотографию перед моей окровавленной физиономией. — Только один кивок!»
Но я ни в чем не признался. Я хранил ее образ запертым в моем сердце, как в сейфе, и они не могли добраться до него, ни сдирая с меня кожу, ни ломая мои кости. Однажды, когда я сидел в своей одиночке, зализывая раны на лице и вправляя сломанный нос, смотровое окошко в двери открылось, и через него на пол порхнуло письмо. Окошко закрылось. Я с трудом поднял письмо и кое-как дополз обратно до койки. Это было письмо от нее, с извинениями и наилучшими пожеланиями. Она встретила хорошего человека, писала она. Он музыкант. Все ее друзья уговаривали ее порвать со мной, потому что я отсиживал двадцатилетний срок, и у нас не было будущего. Она полюбила этого человека и собиралась выйти за него, когда его симфонический оркестр вернется из турне. Она сожалела о том, что у нас все так кончилось, но надеялась, что я пойму. Мы никогда больше не увидимся, но она желает мне всего самого хорошего в жизни.
Кровь капала с моего лица на страницы письма. Охранники, несомненно, прочитали письмо, прежде чем подкинуть его мне. Я слышал, как они смеются за дверью моей камеры. Им казалось, что они одержали таким образом победу надо мной. Интересно, подумал я, выдержал бы этот ее музыкант мучения ради нее или нет? Возможно, и выдержал бы. Сказать, что у человека в душе, можно лишь после того, как начнешь отнимать у него одну надежду за другой.
И в эти недели после смерти Маурицио лицо Модены — точнее, мое представление о его окровавленном лице с застывшим взглядом и кляпом во рту — стало смешиваться с моими собственными воспоминаниями о любви, утраченной в тюрьме. Сам не знаю, почему. Казалось бы, не было оснований связывать судьбу Модены с моей жизнью. Тем не менее, это происходило в моем сознании, и оттого во мне росла какая-то темнота, слишком оцепенелая, чтобы выразиться в печали и слишком холодная для гнева.
Я старался бороться с этим чувством, загружая себя работой. Снялся еще в двух болливудских фильмах — в роли безмолвного гостя на вечеринке и в уличной сценке. Встретился с Кавитой, побуждая ее навестить Ананда в тюрьме. Почти каждый день я вместе с Абдуллой качал железо, занимался боксом и карате. Время от времени я проводил день в своей бывшей клинике в трущобах. Помогал Прабакеру и Джонни в подготовке к свадьбе. Слушал лекции Кадербхая, с головой уходил в книги, рукописи и пергаменты в библиотеке Абдула Гани, рассматривал древние фаянсовые изделия с гравировкой, имевшиеся в изобилии в его личной коллекции. Но никакие занятия и нагрузки не могли рассеять тьму, образовавшуюся внутри меня. Постепенно истерзанное лицо испанца и его беззвучно кричащие глаза окончательно слились с моими личными воспоминаниями, с кровью, капавшей на письмо, с рвущимся из меня, но не слышным никому криком. Эти невыкричанные моменты нашей жизни остаются с нами, спрятанные в самом укромном уголке сердца, куда любовь приползает умирать, как забиваются в глухую чащу умирающие слоны. Только там наша гордость позволяет себе выплакаться. И в эти одинокие ночи и перепутанные в сознании дни передо мной непрерывно стояло лицо Модены, его глаза, устремленные на дверь.
Пока я работал и рефлексировал, в «Леопольде» все изменилось. Наша прежняя компания распалась. Карла уехала, Улла уехала. Модена уехал и, возможно, умер. Маурицио несомненно умер. Однажды, спеша по какому-то делу, я проходил мимо ресторана и заглянул в дверь. Ни одного знакомого я не увидел, кроме Дидье, который стоически просиживал каждый вечер за своим любимым столиком, прокручивая свои сделки и угощаясь время от времени за счет знакомых. Постепенно вокруг него собралась новая компания, несколько иного стиля. Лиза Картер привела как-то с собой Калпану Айер, и молодая ассистентка режиссера стала завсегдатаем заведения. Часто забегали перекусить, выпить кофе или пива Летти с Викрамом, активно готовившиеся к свадьбе. Однажды Кавита Сингх пришла вместе с двумя молодыми сотрудниками, журналистами Анваром и Дилипом, которых интересовало, что собой представляет ресторан. Помимо Кавиты, они встретились здесь с Лизой, Калпаной, Летти и тремя немками, которых Лиза подрядила сниматься в очередном фильме. Анвар и Дилип были свободными и жизнерадостными молодыми людьми. Проведя вечер в обществе семи красивых, умных, энергичных молодых женщин, они стали бывать в «Леопольде» ежедневно.
Атмосфера в «Леопольде» стала иной, нежели при Карле Саарнен. Присущие ей ум, проницательность и остроумие вдохновляли ее друзей на серьезные беседы, окрашенные тонким юмором. Теперь же тон задавал Дидье с его экстравагантным сарказмом и склонностью ко всему вульгарному и непристойному. Смеялись, возможно, чаще и громче, но шутки и остроты не западали в память, как прежде.