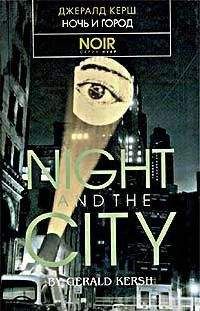— Это кто? — спросил Фабиан.
— Конь в пальто.
— Кто?
— Конь в пальто, детка, приехал старый молоковоз!
— О-о-о! — простонал Фабиан. — Ладно, ты где сейчас работаешь?
— В «Серебристой лисе».
— Новый клуб?
— Миленькое местечко, Гарри. Приходи как-нибудь навестить меня. Хи-хи-хи!
— А кто владелец? — осведомился Фабиан.
— Фил Носсеросс.
— Оркестр ничего?
— Чудесный.
— А почем у них выпивка?
— Тридцать пять шиллингов за бутылку скотча.
— Грабеж! — возмутился Фабиан. — Ну, я, может, как-нибудь зайду. Дай-ка мне карточку.
Ви протянула ему карточку: «КЛУБ „СЕРЕБРИСТАЯ ЛИСА“, Лестер-Мьюз, Лестер-сквер».
— Просто скажи, что ищешь меня, Гарри.
— Хочешь, заглянем туда? — спросил Фабиан, вертя в руке карточку.
— Нет, спасибо.
— Ну, как тебе «Чемпионы Фабиана», а, Фиглер?
— Я уже тебе сказал. Сойдет.
— Ну а как насчет твоего имени?
Фиглер рассмеялся.
— Моего? Моего имени? Да ладно, забудь о моем имени.
— Надо заказать карточки. Боже мой! «Чемпионы Фабиана»! Черт, надо выпить.
— Грейпфрутовый сок, — сказал Фиглер.
— А ты, Ви?
— Джин с лаймом.
Анна Сибирь приняла заказ.
— Нет, а ты все-таки уверен, что не хочешь, чтобы твое имя было в названии? — спросил Фабиан.
— Пускай все лавры достанутся тебе, мне бы только увидеть деньги, — ответил Фиглер, потягивая грейпфрутовый сок со сдавленным бульканьем захлебывающегося человека. — Уф!.. Буль-буль!.. Ладно, мне пора. У меня был тяжелый день. Я устал. Жди меня здесь завтра в двенадцать, и мы вместе пойдем смотреть место.
— Половина двенадцатого! — воскликнула Ви, посмотрев на часы. — Мне пора на работу. Ты идешь, Гарри? Это и правда чудесное местечко.
— Нет, не сегодня! Я иду спать. Я тоже порядком вымотался. Завтра вечером, детка, сегодня никак.
Фиглер направился к станции метро «Лестер-сквер».
— До свиданья.
— До встречи, Фиглер.
С Крэнборн-стрит была видна площадь Лестер-сквер, чьи неоновые огни полыхали во тьме, словно диковинный багряный цветок на посеребренном стебле.
— Тук-тук, — сказала Ви.
— Кто там? — проговорил Фабиан с мученической гримасой.
— Агата.
— Какая Агата?
— Агата, которая знает, что тебя кое-кто надувает! Хи-хи-хи.
— Ладно, отвяжись! — проворчал Фабиан.
Они расстались.
Пробило час ночи. Потом два. Фабиан спал сном праведника, свернувшись калачиком в своей огненно-красной пижаме.
Три.
«Чемпионы…», — пробормотал он во сне.
— Ох… — вздохнула Зои, предаваясь печали, затерянной в тайных закоулках ее сознания.
Четыре.
Ночь была холодна, и луна не светила на небе. Только одна далекая голубая звездочка мерцала во мраке.
Так пускай же ее ледяной свет всегда освещает наш путь, путь одиноких странников, потерянных в этом бесприютном и жестоком мире.
Четыре.
Интерлюдия: человек и кошка
Из темного дверного проема небольшой лавчонки донесся глубокий, протяжный, вибрирующий звук, рожденный страстью, бушующей в самой глубине кошачьей души:
— Мяу! Уааа-яяяяу!.. Мяяяяу!.. Яу! Яу!..
Посреди улицы сидела невзрачная серая кошка с весьма надменным видом, а вокруг нее ходил кругами огромный толстый котище, черный, как сама ночь. Чуть поодаль понуро стоял маленький черный котик с белыми лапками.
— М-мяу? — предложил черный здоровяк.
Серая кошечка презрительно пожала плечами.
Маленький черно-белый котик тоже пустил пробный шар:
— Мрр-рау?
Серая кошечка принялась вылизывать подмышки.
— Кррр! — зашипел черный котище. Два кота вызывающе воззрились друг на друга.
— Кххчщ! — выругался черно-белый, замахиваясь правой лапой. Через секунду они уже катались по земле, сцепившись в один мохнатый клубок и неистово вопя. Грозно залаяли собаки, услыхав пронзительные вопли своих извечных врагов. Ночную тишину разом прорезал хор злобных голосов, захлебывающихся от ненависти. Собаки, просыпаясь, вторили друг другу, и их лай, словно круги по воде, разнесся на мили вокруг — по всему Городу, по всей земле. В ночи хорошо слышны даже легкие шорохи, а у собак, как известно, отменный слух; слепо вторя друг другу, собаки из Лендс-Энд,[13] Дувра, Кардиффа, Барроу-ин-Фернесс,[14] Халла,[15] Глазго, из самых дальних деревушек на севере захлебывались лаем, и этот хриплый, надрывный лай перебудил людей по всей стране. Десятки тысяч мужчин вскакивали с постелей с криком: «Фу! Лежать!» Десятки тысяч женщин будили мужей, испуганно шепча: «Воры! Грабители!»
А серая кошечка неторопливо вылизывала животик.
Черный котик с белыми лапками с позором ретировался. Кот может в два счета расправиться с мышью, но он не в силах причинить особого вреда другому коту. Будь у них когти чуточку подлиннее, кошки давно бы уже вымерли; они орут от ненависти, едва не лопаются от ненависти. Они мечтают о том, чтобы рвать, кусать, царапать, уничтожать друг друга, но это им не по силам. Потому вся их злоба, вся ненависть выплескивается в зловещие, надрывные вопли — точь-в-точь как у старых деревенских сплетниц, распускающих грязные слухи.
Черный здоровяк вернулся к серой кошечке.
— Кррр-мр-рау?
— Ммм-мяу… — ответила она без особого энтузиазма. И легонько помахала хвостом. Черный котище бочком приблизился к ней…
— Мммяя-яяуу! Ммм-яяуу! — завыл черный кот. В его голосе звучала неподдельная боль.
Зачем котам это нужно? Ведь любовь для них — это не серенады при луне и не букеты роз. Половой орган кота похож на колючий ежик трубочиста: это всего лишь хирургический инструмент, с помощью которого происходит размножение. Кот проливает свою кровь в бесчисленных драках, теряет клочья шерсти, надрывается от крика — и все ради чего? Ради того, чтобы приблизиться к камере пыток.
Какой от этого толк? На свет нарождаются новые кошки.
А кому они нужны?
— Ооооуууу! — стонал черный кот. С другой стороны улицы его слушал черно-белый кот, дрожа от зависти и негодования.
Серая кошка задумчиво созерцала фонарный столб. Все эти страдания были ей глубоко безразличны. Что ей было известно о материнстве, о женственности? Она произвела на свет полсотни котят и благополучно забыла о них. Коты… Да, коты были еще ничего, но жестянка из-под сардинок была ей гораздо больше по вкусу…
— Ба! — Проходивший мимо полицейский направил на них свой фонарик и засмеялся. — А ну кыш!
Черный кот мигом удрал; серая кошечка не двинулась с места. Полицейский пошел дальше. Тогда чернобелый котик, изящно перебирая лапками, пересек улицу.
— Мм-мяуу? — осведомился он.
Серая кошечка ответила, на этот раз более благосклонно:
— Крррр….
Черно-белый кот издал протяжный одинокий вопль, похожий на плач расстроенной скрипки.
Серая кошечка зевнула с нескрываемой скукой. Какими монотонными и однообразными казались ей эти отчаянные вопли охваченных страстью самцов! Как они все были похожи…
Старик с котомкой доплелся, шаркая ногами, до входа в лавку и принялся исследовать содержимое мусорной корзины. Черно-белый кот убежал.
— Кис-кис-кис! — позвал старик.
Серая кошка сделала вид, что не знает его, и пошла своей дорогой. На Олд-Комптон-стрит она решилась на одну из своих маленьких хитростей. Она знала, что где-то здесь, поблизости, все еще бродят люди — повелители света и тьмы, огромные великаны, властелины рыбы и огня. Она зашла в кафе, меланхолично повесила голову и робко вопросила:
— Ммм… Мяу?
Дружеская рука погладила ее… Она замурлыкала. Потом вдруг та же самая рука с неожиданной жестокостью схватила ее за шкирку, и раздался голос:
— Я тебя предупреждала! Больше предупреждать не буду! Брысь!
Описав дугу, она вылетела из дверей кафе и, целая и невредимая, приземлилась на все четыре лапы. Встряхнулась и пошла дальше, на северо-запад.
Поистине, смутить эту кошку было невозможно.
Это была настоящая бродячая городская кошка, без стыда и без совести, верткая, как угорь, упругая, как мяч, упорная и ловкая, настырная и прилипчивая, как жевательная резинка, рожденная на свалке, среди жестянок из-под лосося и разбитых бутылок. Ее происхождение покрыто мраком неизвестности, завалено отбросами из мусорных ведер со времен египетских фараонов. В течение не одной сотни лет ее предки выживали в самых невероятных условиях: не раз их сбрасывали с лестницы и вышвыривали из дверей. Она, как никто другой, выучилась науке выживания. «Выживание превыше всего» — таков был девиз всей ее жизни. Она не была агрессивной, но ни один акробат не мог сравниться с ней в умении владеть собственным телом: казалось, что каждый его мускул был предназначен для того, чтобы красться, ползти, карабкаться и удирать. Она жила исключительно для себя — типичная Кошка, Гуляющая Сама По Себе, Вечная Изгнанница, презираемая в приличных домах. Где бы она ни появилась, ее присутствие распознавалось по запаху и пропаже еды, и ее тут же выгоняли прочь с проклятиями и пинками. Некоторые сердобольные граждане брали ее в дом и нарекали разными забавными именами, но в конце концов они все равно выгоняли ее под тем или иным предлогом. Она наотрез отказывалась ходить в туалет, рассматривая ящичек с песком, куда ее тыкали носом, или как одну из милых человеческих странностей, или как наказание.