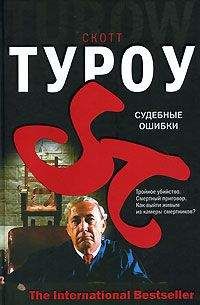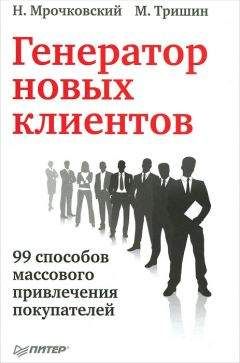— Отлично выглядишь, — сказал ей Ларри.
Отправляясь на процесс, Мюриэл оделась в красный костюм. На лице у нее было гораздо больше косметики, чем в те дни, когда она перебирала дела в прокуратуре. Ларри с обычной фамильярностью коснулся одной из ее больших обручей-сережек.
— Африканские?
— Совершенно верно.
— Красивые, — сказал он.
Мюриэл спросила, в чем проблема, и Ларри подробно рассказал ей, что накануне услышал от Эрно. Было пять часов, и заключенных заперли для переклички. Это означало, что придется ждать.
— Хочешь, пока суд да дело, взглянуть на него? — спросил Ларри.
Он показал надзирателю значок, они вошли и поднялись на решетчатые настилы, идущие вдоль камер с дверями из стальных прутьев. Мюриэл шла медленно. Она не успела переобуться, и ступать на высоких каблуках по решетке было нелегко. Если б она споткнулась, это могло бы кончиться не только смущением. Вольные приучились держаться подальше от камер. Мужчин заключенные едва не удавливали галстуками, женщинам, естественно, приходилось хуже. Подчиненные шерифу надзиратели поддерживали с заключенными перемирие, основанное на принципе «живи и давай жить другим», и не всегда спешили вмешаться.
По пути им представала обычная тюремная реальность — черные лица, дурные запахи, бросаемые в спину оскорбления и насмешки сексуального характера. В некоторых камерах мужчины натянули бельевые веревки, разделяя и без того тесное пространство. Зачастую к прутьям были приклеены фотографии членов семьи или снимки девиц, вырезанные из журналов. В ожидании переклички люди сидели или спали, слушали музыку по транзисторам, перекликались с соседями зачастую на условном языке. Надзиратель в желто-коричневой форме, рослый негр, пошел сопровождать их после того, как они миновали последние ворота, и был явно недоволен тем, что его побеспокоили. Он дважды ударил дубинкой по двери, давая понять, что это камера Коллинза, и неторопливо отошел, ведя концом дубинки по прутьям, дабы заключенные знали, что он поблизости.
— Кто из вас Коллинз? — спросил Ларри двух людей за дверью. Один из них сидел на унитазе, другой, просунув руки между прутьями, играл в карты с заключенным из соседней камеры.
— Ну и жизнь. Ни уединения тебе, ничего.
Коллинз взглянул на Мюриэл, но продолжал заниматься своим делом, не считаясь с их появлением.
Они ненадолго отошли. Когда вернулись, Коллинз застегивал «молнию» на оранжевом комбинезоне.
— Ты нарко или кто? — спросил Коллинз, когда Ларри показал ему значок. У него была не очень темная кожа, светлые глаза и коротко остриженные негритянские волосы. Как и говорил Эрно, он был рослым, красивым. Почти оранжевые глаза его светились, как у кота, и он хорошо сознавал, что привлекательно выглядит. Посмотрев на Мюриэл, Коллинз расправил на плечах комбинезон.
— Из группы расследования убийств, — ответил Ларри.
— Я никого не убивал. Такими делами не занимаюсь, начальник. Вы, должно быть, пришли за другим черномазым. Я не убийца, я любовник.
В подтверждение своих слов Коллинз пропел несколько тактов из песни Отиса Реддинга, вызвав тем самым значительное оживление в нескольких камерах на верхнем и нижнем этажах. Потом повернулся, спустил на комбинезоне «молнию» и снова пошел к унитазу. Посмотрел в упор на Мюриэл, ожидая, что женщина поспешит уйти, но она постояла еще минуту.
— Что скажешь? — спросил Ларри, когда они шли обратно.
— Чертовски симпатичный, — ответила Мюриэл. Он походил на Гарри Белафонте, любимого певца и киноактера ее матери.
— Постараюсь достать тебе его тюремную фотографию в рамке. Не тратим ли мы попусту время?
Мюриэл спросила, что он имеет в виду.
— По-моему, с этим Коллинзом каши не сваришь. Но если ты можешь подождать час, я тоже.
После ужина Коллинза могли потихоньку привести в комнату для допросов. В административном отделе Ларри попросил дежурного офицера устроить это, сказав лишь, что им нужно допросить Фаруэлла по поводу одного убийства. Половина заключенных была сбита в шайки или как-то связана между собой; если б они сочли, что Коллинз сотрудничает с полицейскими, это быстро стало бы известно. Дежурный офицер отвел Ларри с Мюриэл в маленькую трапециевидную комнату, трапезоид с дешевыми штукатурными плитами, покрытыми следами каблуков в нескольких дюймах над полом. Они сели в пластиковые вращающиеся кресла, привинченные к полу, как и стол, толстыми болтами.
— Ну и как там Толмидж?
Ларри отвел взгляд, словно тут же пожалел о своем вопросе. С ней теперь многие заговаривали о Толмидже. На прошлой неделе в газете появился его снимок, сделанный во время сбора пожертвований. Но Ларри вел речь не о том.
— Знаешь, я не думала, что ты так ревнив.
— Это ничего не значащий вопрос, — запротестовал он. — Как о самочувствии и о семье.
— Угу.
— И что же?
— Оставь, Ларри. Я вижусь с ним. Мы хорошо проводим время.
— А со мной не видишься.
— Ларри, я не помню, чтобы виделась с тобой так уж часто. Насколько могу судить, ты даже не думаешь обо мне, пока тебе не приспичит.
— Ну и что тут плохого? — спросил Ларри. Мюриэл хотела было возмутиться, но поняла, что он ее подзуживает. — Теперь буду каждый день посылать тебе цветы и любовные письма.
«Любовные письма». Ларри всегда мог чем-то ее удивить. Она лишь посмотрела на него.
— Я даю тебе свободу действий, — сказал он. — Думаю, ты хочешь ее иметь.
— Хочу, Ларри.
Когда Мюриэл закрыла глаза, ресницы, казалось, прилипли к косметике. Живущий инстинктами, Ларри каким-то образом понял — что-то произошло. Два дня назад Толмидж, уходя от нее, прижал ее голову к своей груди и сказал: «Может, пора подумать о том, чтобы сделать это постоянным?» Она всегда понимала, что дело идет к тому, но тут ее словно бы охватил паралич. С тех пор она всеми силами старалась не думать о его словах.
Она словно бы смотрела в Большой каньон[6]. И почему-то на опасной глубине виднелся ее первый брак, редко служивший хотя бы темой для раздумий. Замуж она вышла девятнадцатилетней, в том возрасте, когда люди совершают множество глупостей. Тогда она думала, что получает предмет желаний. Род был ее учителем английского языка в школе. Умным, язвительным и все еще неженатым в сорок два года — ей даже не приходило в голову задуматься, почему. Летом после окончания школы она случайно встретилась с ним и стала нагло флиртовать. Мюриэл уже знала, что сексуальная навязчивость творит чудеса для привлекательной девушки. Она преследовала Рода, приглашала пообедать вместе, сходить в кино — и неизменно тайком от родителей. Они были потрясены, когда она объявила им, что вышла замуж. Но она работала, через пять лет окончила колледж, преподавала в школе и вечерами училась на юридическом факультете.
Со временем, разумеется, обаяние Рода поблекло. Собственно говоря, не совсем так. Он оставался одним из самых забавных людей, каких она знала, — пьяный умник, сидя в конце стойки, цитировал лучшие строки из английских комедий. Но, в сущности, был несостоявшимся человеком. Обладал блестящим умом и был связан по рукам и ногам своим несчастьем, сознавал это, часто говорил, что главная проблема его жизни — невозможность держать всего двумя руками стакан, сигарету и пульт управления телевизором. Возможно, был гомосексуальным, но не осмеливался признаться в этом себе. Однако интерес к сексу с ней исчез вскоре после их помолвки. Что на третьем году их совместной жизни привело ее к связям с другими мужчинами. Род знал об этом и как будто не имел ничего против. Однако когда она заводила речь о разводе, приходил в ужас. Не мог сказать об этом своей матери. Суровой, анемичной, чопорной, которую ему надо было бы давным-давно послать ко всем чертям. Вместо этого он позволял ей быть судьей своих поступков. До самой своей смерти. От коронаротромбоза, который предвещала ранняя смерть его отца и деда. Несмотря на все предзнаменования, Род не занимался физическими упражнениями и ходил к врачу лишь затем, чтобы высмеивать его, но для Мюриэл эта утрата была неожиданно тяжелой. Она лишилась не только самого Рода, но и предмета гордости, который он представлял собой для нее, когда ей было девятнадцать.
Женщина, вышедшая замуж за человека, годящегося ей в отцы, оглядываясь назад, говорит: «У меня были проблемы». Однако основное побуждение Мюриэл оставалось прежним до сих пор: она хотела чего-то добиться в жизни. У незадачливого пьяницы Рода и могущественного Толмиджа общего было меньше, чем у травы и камня. И пятнадцать лет, прошедшие после ее первого брака, были буквально целой жизнью. Но сознание того, как она может ошибаться в таких делах, продолжало ее тревожить. Однако с Ларри ей хотелось выглядеть решительной.
— Не могу поверить, что Толмидж для тебя так много значит, — сказала Мюриэл.
— Не знаю, — ответил он. — Похоже, я уже вольный человек.