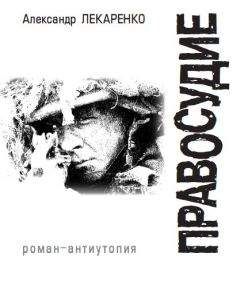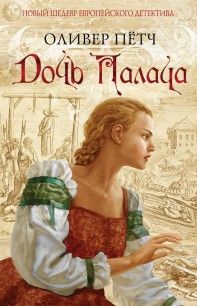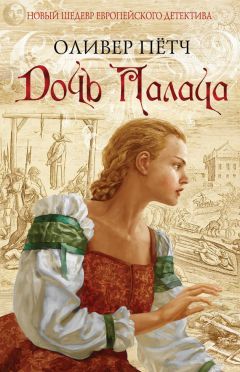Он легко побежал на лыжах в свою берлогу, легко было на его каменном сердце — солнце, мороз и кислород действовали возбуждающе.
Дома он застал Берту одну, Рита с Эвелиной уехали что-то купить в ближайшее местечко на подаренной Владимиром машине. У него мелькнула мысль, что их могут подстеречь мытари на дороге, да и черт с ним, откупятся, не Франция, в конце-концов. Он направился было в ванную, смыть пот трудовых свершений, но его окликнула Берта.
- Ты ходил заметать следы?
- Точно. Заметать следы. Нечего заметать, ничего нет.
- А тебе не кажется, что мы зря притащили в дом то, что осталось от Владимира?
- А тебе не кажется, что ты зря играешь с черепами? Берта промолчала.
- Не бойся, — усмехнулся он. — Писяй себе, если это не идет во вред твоему здоровью, никто не станет заглядывать в твои ночные горшки.
- Убийства раскрывают, — заметила Берта.
- Раскрывают. Если у кого-то в черепе начинает болтаться язык. Помнишь, я рассказывал тебе про ментовской прием?
- Удар коленом?
- Да. Все знают про него, и все равно ловятся. Люди любят смотреть в глаза другим людям, они играют, поэтому их всегда переигрывают. Даже начинающий урка знает три основных правила безопасности: «не знаю, не видел, не помню». Но с ним начинают говорить, его приглашают к игре, не имеет значения, кто — баба или опер — и он втягивается в игру. А сказав «а», он уже не может не сказать «б». Так человек устроен. Уверяю тебя, что даже матерые воры ловятся на это. Нет игроков, которые не проигрывают. Особенно, когда они играют против игрального автомата, против системы. Не смотри в глаза — ударят между ног, не играй ни с кем, кроме своих черепов, у них нет языков, и ты никогда не проиграешь.
- Есть улики.
- Не существует самодостаточных улик. Даже если тебя застали над трупом с окровавленным топором в руках, ты всегда можешь сказать, что только что вынула этот топор из его головы, чтобы оказать первую помощь. Я знаю, о чем говорю, в свое время из моих рук ушел убийца при таких же обстоятельствах, только у него в руках был нож, а не топор. Улика — это язык. Слово становится делом в уголовном делопроизводстве, а твои дела не имеют никакого значения. Таково человеческое правосудие, Берта, — он снова направился в ванную.
- Постой! Если бы ты не пристрелил убийц моей дочери…
- То, вероятней всего, они бы сейчас пили водку в каком-нибудь кабаке. И если бы не начали болтать по пьяне, то ничего бы и не было, кроме розыскного дела по факту исчезновения вас двоих. А таких дел в уголовном розыске — штук двести, начиная с финской кампании.
Он скрылся в ванной.
Рита с Эвелиной прибыли в цветах — в оранжевости апельсинов, в хрусте разноцветных пакетов, в алом зареве голландских роз, в мерцании длинноствольных бутылок и скромно-коричневом обаянии буржуазных ананасов — Париж теперь произрастал в любом местечке, где признавали правила европейского обмена, и праздник жизни мог быть всегда с тобой, если было чем расплатиться. Рита забарабанила кулаком в дверь ванной.
- Выходи, Леопольд, подлый трус! Почему ты прячешься от своих принцесс?
Он вышел — и попал в Диснейленд.
Рита металась по комнате, меча на стол коробки конфет, сардины, сыр, виноград и замороженных креветок.
- Поминки закончились! — кричала она. — Начинается День Благодарения!
- Хэппи бёсдэй ту-ту-у-у! — пела Эвелина.
- Почему — «ту-ту-у»? — удивился он.
- Потому что наш паровоз летит, в коммуне остановка! — закричала Рита. — Ты можешь сделать хоть что-нибудь, ты можешь открыть бутылки?
Он мог открыть бутылки и сделал это, но не нравились ему ни сладкие ликеры, ни коммуны, не любил он ни того, ни другого.
- Жаль, Вовка не дожил, — легко заметила Рита, сидя за столом,
- Любил он мараскин. Берта, деточка, передай мне сыр, пожалуйста. Где-то через полчаса застолье плавно самоорганизовалось и приобрело черты юбилейного заседания, под председательством Риты. «Почему женщина такая тварь? — спросил он сам себя, ускользнув на крыльцо подышать и отдохнуть от Риты. И ответил сам себе с усмешкой. — A кто не тварь? Ты, что ли? Женщина более откровенна в своей тварности, вот и все. Как жизнь. Недаром слова «Жизнь», «Природа», «Земля» на всех языках — женского рода. Жизнь может замаскироваться под нежизнь, как вирус. Женщина может замаскироваться под супругу, подругу, подпругу и даже под рабыню, если вынудят обстоятельства. Но она всегда останется хозяйкой, мать ее, на этой Земле. И не будет она ни с кем делиться. Она возьмет все — и правильно сделает. Она очень дорого платит — муками своего влагалища. А мужчина хочет взять все, взять силой, ничем не заплатив. Поэтому он всегда платит силе, которой у него нет. Он — придаток, которым пользуются, член, который морочит себя, мня себя головой. Поэтому, когда сила перестает поддерживать его, — он способен только мочиться под себя». «Член, возомнивший себя головой, а также — руками, ногами, печенью, почками и сердцем» — усмехнулся сам себе. Он полагал, что может позволить себе посмеяться над собой. Он не участвовал в войне полов, он не участвовал в игре Жизни — женской игре. Он стоял на обочине. Он был неуязвим.
Почему тогда Рита — толстозадая телка, толстогубая блядь — могла одним своим запахом перечеркнуть его собственные правила игры? Почему против нее не действовали сталь, мороз и камень сердца? Почему? Почему? Почему?
Он услышал шум и вернулся в дом. Застолье уже выплеснулось за рамки юбилейного заседания и вошло в русло парижского борделя
- 20-е годы, Мулен-Руж. Рита с Эвелиной плясали канкан и пытались втянуть в это дело Берту, но Берте плясать канкан было нечем — она была в джинсах.
- Папа! — крикнула Эвелина. — Скажи своей подружке, пусть она снимет штаны!
Он предложил Берте снять штаны и, к его огромному удивлению, она согласилась.
Они плясали втроем, вопя при этом «Была я гимназисткой и шила гладью…» — оказалось, что слова знали все, пока никто не обратил внимания, что Берта была в его трусах, которые трещали на ней. Он смотрел, слушал и думал о том, что вот это и есть подлинный танец жизни, без дураков — дурак сидел на стуле с рюмкой кальвадоса в руке. Три женщины, три возраста, три состояния душ: мать, любовница, дочь — высоко задирая ноги самозабвенно плясали канкан, пока бешеная сука, высунув язык, присела рядом с дураком, вооруженным рюмкой. Они нуждались в зрителе, но зритель никак не участвовал в их танце, они нуждались в дураке, чтобы дурак удовлетворял их своим членом или своим арбалетом, но не желали, чтобы он путался под ногами, все было — для него, но его самого как бы и не было. Они были самодостаточны, как Жизнь — позволяя существовать на своей периферии дураку с членом, они позволяли оплодотворять себя восхищением, ничуть не восхищаясь дураком.
- Берточка, деточка, что это на тебе надето? — Рита заметила и уставилась на арендованные трусы. — Немедленно сними эту гадость! — она вылетела в соседнюю комнату и вернулась с ворохом белья. — Выбери, что тебе нравится!
Берта начала было отказываться, но Рита с Эвелиной немедленно совлекли с нее «гадость» и с отвращением отбросили к ногам хозяина и его суки.
Берта вспыхнула обнаженной роскошью волос, она была натуральной блондинкой, и в следующее мгновенье хозяин приоткрыл рот - с черной Ритиной резинкой между ног она выглядела намного более обнаженной, чем без нее.
- Это — аксессуар к шубе, — пояснила Рита, возвращаясь и волоча к столу приодетую Берту и почти голую от плясок Эвелину. — Женщина должна иметь три вещи — шубу, трусы и сапоги, все остальное — от лукавого.
- Щедрый парень, этот лукавый, — заметил он, — если все остальное женщина имеет от него.
- От него женщина имеет только то, что остается под трусами, - отрезала Рита. — А все, что сверх того, приобретает сама. Вечеринка закончилась нехорошо. Берта вдруг начала говорить бессвязно, о своей дочери, Рита и Эвелина не понимали ее. Потом ее затошнило, она едва добежала до туалета, у нее начался страшный понос, рвота и головные боли.
Она сидела на унитазе, с миской между ног, раскачивалась и ничего не видела перед собой, он вынужден был поддерживать ее за плечи, чтобы она не упала.
Когда он вынес ее из туалета и уложил в постель, Рита и Эвелина давно уже ушли в свою спальню.
- Не иметь тела — это страдание, — сказал легкий, бесполый голос в пустоте. — Нельзя слышать звуки, не имея ушей. Нельзя видеть цвета, не имея глаз. Нельзя чувствовать вкус, не имея языка. Нельзя ощущать запах, не имея носа. Нельзя познать прикосновение, не имея кожи.
Возникла звенящая пустота. И снова стала голосом в пустоте.
- Ангелы восстали, возжелав познать, и Бог наказал их вечным наслаждением. Если наслаждение длится всегда, оно становится страданием. Если страдание длится всегда, оно перестает быть страданием. Смерть размыкает и замыкает круг, делая его вечным. Ангелы были мыслями Бога, отринувшими Творца, а стали тварями под колесом, Вечным Змием, кусающим свой хвост, — голос был хрустальным колокольчиком в пустоте. — Не познав непознанное, нельзя страдать от него. А, познав, нельзя освободиться от страдания. Мысль в пустоте, познавшая звук, цвет, вкус, запах и прикосновение, прожигает самое пустоту… Вдруг раздался металлический звук, как от лопнувшей струны, он мгновенно проснулся и сел в постели. Засигналил мобильник. Он схватил трубку, еще ощущая звон в ушах.