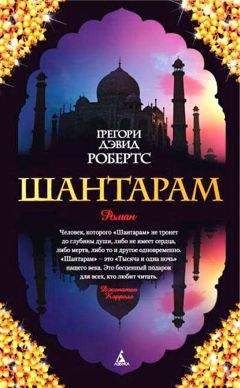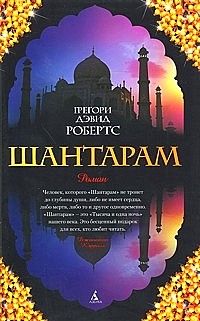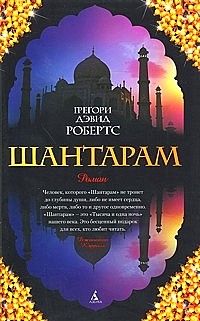— Что касается её друга Ахмеда и Кристины, — тихо сказал я, — она думает, что мадам Жу приказала убить их, и винит себя за это, считает, что не должна была допускать такого.
— Именно! — изумлённо воскликнула она. Потом нахмурилась со смущённой улыбкой на лице. — Она сама тебе сказала?
— Да.
— Просто удивительно! — рассмеялась она. — Карла ни с кем не говорит об этом. Ни с кем. Но на самом деле следовало ожидать чего-то подобного. Тебе удалось найти к ней ключик. Она неделями рассказывала о холерной эпидемии в трущобах, так словно то был некий священный трансцендентальный опыт. И о тебе всё время вспоминала. Никогда не видела её такой… вдохновенной, что ли.
— Когда Карла поручила вызволить тебя из Дворца, — спросил я, не глядя на неё, — это делалось для тебя или чтобы свести счёты с мадам Жу?
— Хочешь знать, не оказались ли мы с тобой просто пешками в игре, которую вела Карла? Ты ведь об этом спрашиваешь?
— Пожалуй, да.
— Что ж, должна признать: «Да, так оно и было». — Она стянула с шеи свой длинный шарф и набросила на руку, не отрывая от него взгляда. — Ну, конечно, Карла любит меня и тому подобное, сомневаться в этом не приходится. Она мне такого нарассказывала, о чём не знает никто — даже ты. И я её люблю. Ты ведь знаешь, что она жила в Штатах. Она там выросла и сохранила к этой стране тёплые чувства. Наверно, я единственная американка, работавшая во Дворце. Но главным, тайным её мотивом была война с мадам Жу, и, наверно, она использовала нас для этого. Но большого значения это не имеет. Она вытащила меня оттуда, вернее, ты это сделал вместе с ней, и я ужасно рада. Какими бы ни были её побуждения, я не держу на неё зла, надеюсь, что и ты тоже.
— Да, конечно, — вздохнул я.
— Но что же?
— Но… впрочем, ничего. У нас с Карлой не вышло, но я…
— Ты всё ещё её любишь?
Я повернул голову, чтобы встретиться с ней взглядом, но, посмотрев в её голубые глаза, сменил тему разговора.
— Ты слышала что-нибудь от мадам Жу?
— Ровным счётом ничего.
— Она расспрашивала о тебе, чем-то интересовалась?
— Ничем, хвала Господу. Странно: я не чувствую ненависти к мадам Жу. Вообще не испытываю по отношению к ней никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных, просто не хочу когда-либо оказаться рядом с ней снова… Кого я действительно ненавижу, так это её слугу Раджана. Он единственный, с кем общались те, кто работал во Дворце. Его брат заведует кухней, а он присматривает за девушками. И какой же он жуткий сукин сын этот Раджан! Ходит неслышно, словно привидение. Такое ощущение, будто у него глаза на затылке. Страшнее его нет никого в целом свете. А мадам Жу я даже никогда не видела: она разговаривала с нами через металлическую решётку. Они были во всех комнатах, поэтому она могла следить за тем, что там происходит, беседовать с девушками и клиентами. Поверь, Лин, это ужасное, отвратительное место. Лучше умереть, чем вернуться туда.
Она вновь смолкла. Волны накатывались на прибрежные скалы, лизали гальку у основания стены. Кружились на ветру чайки, высматривая среди скал скрывшуюся от них добычу.
— Сколько денег он тебе оставил?
— Не знаю точно, никогда не считала, но много: семьдесят-восемьдесят тысяч долларов, намного больше тех денег, что Маурицио не поделил с Моденой и из-за которых погиб. Какое-то безумие, правда?
— Тебе надо забрать их и валить отсюда.
— Смешно: я подумала, что мы только что подписали двухгодичный контракт с Мехтой и его фирмой. Контракт, призванный примирить нас с той жизнью, что мы ведём.
— К чёрту контракт.
— Послушай, Лин…
— Пропади он пропадом этот контракт. Тебе надо выпутываться из этой истории. Мы даже не знаем, что там происходит, чёрт бы их всех побрал. Не имеем никакого понятия, почему убили Абдуллу: что он сделал или чего не сделал. Если Сапна не он, тогда дела плохи. Если же он действительно был Сапной, то они ещё хуже. Тебе надо забрать деньги и просто… исчезнуть.
— Куда исчезнуть?
— Куда угодно.
— А ты тоже уедешь?
— Нет. У меня остались дела, которые надо закончить. Да и сам я… некоторым образом человек конченый. А тебе надо уехать.
— Ты, наверно, меня не понял. Деньги не главное: если я сейчас уеду, я увезу с собой кучу денег. Но у меня есть нечто большее: я пытаюсь здесь кое-что создать — это мой бизнес. И я могу это сделать. Я здесь что-то из себя представляю. Просто иду по улице, и люди смотрят на меня, потому что я не такая, как все.
— Ты будешь чем-то где угодно, — сказал я с улыбкой.
— Не смейся надо мной, Лин.
— И не думаю смеяться, Лиза. Ты красивая девушка и душевная к тому же, — вот почему люди на тебя смотрят.
— Дело может выгореть, — настаивала она. — Всем нутром это чувствую. У меня нет образования, я не так умна, как ты, Лин. Меня ничему не учили. Но из этого… может выйти нечто значительное. Я могла бы, не знаю… Могла бы когда-нибудь начать продюссировать фильмы. Делать что-то хорошее…
— Ты сама хорошая. И куда бы ты ни уехала, будешь делать добро.
— Нет. Это мой шанс. Я не вернусь домой, никуда не поеду, пока им не воспользуюсь. Если я этого не сделаю, даже не попытаюсь, всё будет зря — Маурицио… и всё, что здесь случилось. Если же останусь, хочу честно, своей головой заработать полный карман денег.
Бриз то стихал, то вновь начинал дуть с залива, от чего становилось то теплее, то прохладнее, то снова теплее, и я ощущал ветер на лице и руках. Мимо нас проплыл маленький флот рыболовных челнов, направляясь в свою песчаную гавань в районе трущоб. Внезапно я вспомнил, как проплывал однажды в такой же лодчонке через затопленный двор отеля «Тадж-Махал», а потом под гулкими резонирующими сводами Ворот Индии. Вспомнил любовную песню Винода и дождь в ту ночь, когда Карла пришла в мои объятья.
Глядя на эти бесконечные, вечные волны, я вспомнил все свои утраты с той штормовой ночи: тюрьму, пытки, уход Карлы, отъезд Уллы, исчезновение Кадербхая и его совета, арест Ананда, смерть Маурицио, Рашида, Абдуллы, возможную смерть Модены, и Прабакера — самое невероятное: Прабакер тоже мёртв. А я — один из них — гуляю, разговариваю, смотрю на бурные волны, но сердце моё мертво, как у них всех.
— А как же ты? — спросила она; я ощущал на себе её глаза, чувствовал эмоции, которые выдавал её голос: симпатию, нежность, возможно, даже любовь. — Если я останусь, а я определённо собираюсь остаться, что ты будешь делать?
Я смотрел на неё некоторое время, читая рунические письмена в её небесно-голубых глазах. Потом встал, отошёл от стены, обнял её и поцеловал. То был долгий поцелуй: пока он длился, мы прожили вместе целую жизнь — жили, любили друг друга, старели и умерли. Когда наши губы разомкнулись, эта жизнь, где мы могли бы обрести прибежище, сжалась до искры света, которую мы всегда разглядим в глазах друг друга.
Я мог бы её полюбить. Может быть, я и любил её немного. Но иногда худшее, что ты можешь дать женщине, — это полюбить её. А я по-прежнему любил Карлу. Да, я любил Карлу.
— Что я буду делать? — спросил я, повторяя её вопрос. Удерживая её за плечи на расстоянии вытянутых рук, я улыбнулся. — Хочу немного побыть под кайфом.
И я уехал, даже не оглянувшись. Оплатил аренду своей квартиры за три месяца, дал солидную мзду сторожу на автостоянке и консьержу в доме. В кармане у меня был надёжный фальшивый паспорт, запасные паспорта, а пригоршню наличных я сунул в сумку, которую оставил вместе с мотоциклом «Энфилд буллит» на попечение Дидье. Потом взял такси до опиумного притона Гупта-джи, вблизи улицы Десяти Тысяч Шлюх — Шокладжи-стрит — и поднялся на третий этаж по истёртым деревянным ступенькам.
Гупта-джи предоставлял курильщикам опиума большую комнату с двадцатью спальными матами и деревянными подушками. Для клиентов с особыми запросами были предусмотрены отдельные комнаты за этим, открытым притоном. Через очень узкий дверной проём я вышел в потайной коридор, ведущий в эти задние комнаты. Потолок здесь был такой низкий, что мне пришлось пригнуться, передвигаясь почти ползком. В комнате, которую я выбрал, была койка с капоковым матрасом, потрёпанный коврик, маленький шкаф с плетёными дверцами, лампа под шёлковым абажуром и большой глиняный горшок, наполненный водой. Стены с трёх сторон были из тростниковых циновок, натянутых на деревянные рамы. Четвёртая стена в изголовье кровати выходила на оживлённую улицу арабских и местных мусульманских торговцев, но окна были закрыты ставнями, так что лишь несколько ярких пятен солнечного света пробивались сквозь щели. Потолок отсутствовал: вместо него взгляду представали тяжёлые пересекающиеся и соединённые друг с другом стропила, поддерживающие крышу из глины и черепицы. Этот вид был мне хорошо знаком.
Гупта-джи получил деньги и инструкции и оставил меня одного. Поскольку комната располагалась прямо под крышей, здесь было очень жарко. Я снял рубаху и выключил свет. Маленькая тёмная комната напоминала тюремную камеру ночью. Я сел на кровать, и почти сразу же нахлынули слёзы. Мне уже случалось прежде плакать в Бомбее: после встречи с прокажёнными Ранджита, и когда незнакомец омывал моё истерзанное тело в тюрьме на Артур-роуд, и с отцом Прабакера в больнице. Но та печаль и страдания всегда подавлялись: мне как-то удавалось избежать самого худшего, сдержать поток рыданий. А здесь, в этой опиумной берлоге, оплакивая свою загубленную любовь к погибшим друзьям Абдулле и Прабакеру, я дал волю чувствам.