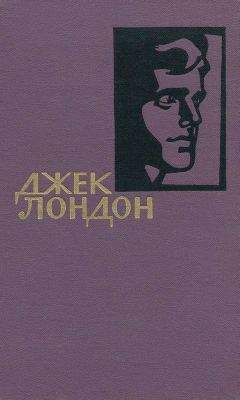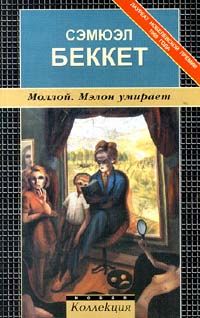Когда приходила пора наносить последние штрихи, их поражало, что Шарлотта всегда снимала линзы, в которых работала на ранних, технических этапах реставрации. Она даже становилась спокойнее, чем обычно. Паоло понимал, что, стоя за мольбертом, она отрешается от окружающего, подобно монаху, готовящемуся медитировать перед священной горой.
Молодые помощники любили ощущение почти буддийского покоя, которое Шарлотта вносила в хаос их мастерской, как она раскладывала по размеру кисти и шпатели, расставляла горшочки с краской, — одно удовольствие смотреть. «Сама словно картину пишет», — сказала Анна. Зная о своём обыкновении оставлять после себя беспорядок, Паоло пытался избавиться от этой привычки, чтобы не досаждать английской коллеге, и испытал стыд, когда, придя однажды раньше обычного, увидел, что Шарлотта убирает за ним, прежде чем приступить к работе.
Они работали в бывшей мастерской отца Рафаэля, в которой до этого устраивались выставки, организованные Академией Рафаэлло. Последние шесть недель это побелённое помещение было отгорожено канатами, чтобы урбинцы и приезжие могли наблюдать, как происходит реставрация, — условие, поставленное комиссией и ненавистное Шарлотте. Она терпеть не могла этот «театр», особенно когда работала над картиной, и часто приходила в дом Рафаэля ни свет ни заря, чтобы проникнуться ничем не нарушаемым миром полотен.
Шарлотта обнаружила, что ей легче представить себе живого Рафаэля, чем в случае с художниками, о которых существовало меньше документальных свидетельств. Для этого у неё был его автопортрет, где он был изображён мечтательным юным поэтом, множество разнообразных академических исследований, его биография, написанная Вазари, который, несмотря на все погрешности, хотя бы родился ещё при жизни предмета его описаний. Вазари сам был художник, уроженец соседней провинции, так что, можно сказать, говорил на одном с ним языке. «А был Рафаэль, — пишет Вазари, — человеком очень влюбчивым и падким до женщин и всегда был готов им служить, почему и друзья его (быть может, больше, чем следовало) считались с ним и ему потворствовали, когда он предавался плотским утехам». Читая Вазари, Шарлотта начинала «слышать» Рафаэля, так же как видела по лицам его Мадонн и Магдалин, какими женщинами он восхищался.
— Другие художники писали лицо святого, — мечтательно-задумчиво проговорила Анна, — Рафаэль же мог изобразить самые мысли святого.
— И показывает нам грешника, живущего в каждом святом, — вставил Паоло без всякого почтения к святости, чем возмутил Анну, истую католичку.
Силой своего гения, говорила себе Шарлотта, Рафаэль превращал своих Святых Дев, младенцев Иисусов и старых Иосифов в живое, реальное итальянское семейство, несмотря на ангельское выражение их лиц. Нельзя сказать, что спонсоры работ по реставрации позволяли ей выражать подобные мысли в каталоге выставки. Они удалили из текста всякое упоминание об интимной стороне его (не говоря уже о Святом Семействе) жизни, возмущённые предположением Шарлотты, что их «божественный художник» прославился своей падкостью на женщин, имел дюжины любовниц и, наконец, женился на одной из них ~- может быть, между прочим, даже на этой — Муте, которая была не аристократкой, а мещанкой, дочерью булочника. Не эта ли тайна запечатала её губы? Сам Рафаэль, конечно же, ни словом не обмолвился о её происхождении.
После всех исправлений, сделанных спонсорами, остался следующий текст: «Рафаэль воплотил взгляды гуманистов эпохи Возрождения, людей, полагавших, что занятия наукой и изучение таких языческих мыслителей, как Платон и Цицерон, способны увести человечество от мысли о врождённой греховности в сторону крепнущей веры в возможности личности».
Неплохое успокоительное. Но это их каталог, их картина, убеждала себя Шарлотта, которая, трудясь над ней, старалась ничем не проявить собственную индивидуальность. В последнее время, возможно, оттого, что работа происходила в доме Рафаэля, она стала разговаривать с ним во сне. И хотя, просыпаясь, она не помнила самих слов, всё же в ней оставалось ощущение изысканности строя и текучести того языка прошлых столетий. Я — истолковательница, говорила себе Шарлотта, археолог, проникающий сквозь слои краски предыдущих реставраторов к скрытой под ними истине; или, кем порой она казалась себе, переводчица. Подобно переводу, реставрация неизбежно несёт на себе отпечаток обычаев, пристрастий и политической жизни эпохи, в которую она производилась; каждый переводчик или переводчица отбрасывает тень от своего источника света. К примеру, Мута на портрете, заточённая в монастыре своей славы, стала для Шарлотты символом всех молчащих женщин в мире, за которых некому говорить, женщин, невидимых за завесой молчания.
♦
Каждый день, заканчивая работу во дворце, Мута приходила понаблюдать за приятной голубоглазой иностранкой, которая бережно возвращала к жизни другую немую, дарила ей молодость осторожными пальцами. Она вглядывалась в лицо на картине (окно в стене — ещё один ночной сторож) и беззвучно говорила ей: «Знаю, чему ты была свидетельницей, я вижу волка в твоих глазах. Ты умеешь хранить тайну так же, как я». Сегодня, заметив, что тонкие морщинки на нарисованном лице исчезли и пожелтевшая кожа вновь посвежела и на ней заиграл румянец, Мута почувствовала и зависть, и обиду на милосердные пальцы. Почему надо было возвращать жизнь другой немой, а не ей, подумала она и внезапно застыла, увидев, как толпа расступилась, пропуская высокого человека, тень того, полузабытого, которого уже с трудом могла себе представить. Она ждала, что он узнает её, и следила за его взглядом, скользящим по лицам и не замечающим её, словно она была такой же бесплотной, как та, с портрета на стене. Он ли это? Они оба вернулись?
♦
— Несомненно, она выглядит моложе, нежели, помнится, была раньше, — говорил граф. — Будто подруга детства, которая чудесным образом осталась прежней, в то время как сам я постарел.
Шарлотта с сожалением поняла, что он, видимо, ожидал от неё комплиментов своей проницательности, какие с такой щедростью расточают итальянцы. Беспомощная, когда дело касалось светской болтовни, она стала лишь ещё сдержаннее.
— Обратили вы внимание на то, как расчистка обнажила технику сфумато, которой Рафаэль обучился во Флоренции?
— Благодаря этому его цвета так неуловимо переходят один в другой, — ответил он. — Как дым, тающий в воздухе.
— Подобная тонкость переходов — заслуга Шарлотты, — вмешался в их разговор Паоло. — Она подлинный художник.
Шарлотта покраснела от смущения:
— Я лишь знаю своё ремесло, не больше. Ретушь — прописка утраченных мест — единственное, в чем я сильна.
Она не прикидывалась скромницей. Масло, акрил, акварель; фигуративная живопись, экспрессионизм, сюрреализм — в своё время она всё перепробовала. Беда была в том, что она не могла найти себя в живописи и не видела смысла множить толпу посредственностей, вопящих: «Я! Я! Я! Посмотрите на меня! Смотрите, какая я оригинальная, какая неповторимая!» Лишённая творческой искры (о чем Джон не стеснялся постоянно напоминать ей), она предпочла реставрировать существующие шедевры, а не добавлять свою долю в кучу мусора. И тем не менее она была довольна, что удалось воскресить кремовую кожу Муты, пусть даже её изумрудное с розовым бархатное платье теперь так сияло, что один из критиков издевательски назвал реставрированную картину: «„Бенеттон" Рафаэль»,[44] отозвавшись о ней почти в тех же выражениях, что и о реставрированном потолке Сикстинской капеллы.
— Анна и Паоло намного более моего сведущи в современных научных методах реставрации, — сказала Шарлотта, признательная своим помощникам, не выказавшим ни малейшего возмущения её саморекламой. Анна, обладавшая скромным талантом, зато невероятно старательная, похоже, была рада держаться в тени, Паоло же по большей части занимался химическими анализами. — Когда я начинала заниматься реставрацией, она в куда меньшей степени была точной наукой, — признала Шарлотта.
Граф Маласпино повернулся к «Муте», которая смотрела на него с холста своими странными косящими глазами.
— Это след пентименто? — спросил он, указывая длинным тонким пальцем. — Вот тут, на её брови? — Он имел в виду шрам, открывшийся после того, как Паоло и Анна смыли старую ретушь.
След тянулся справа через лоб Муты, пересекал бровь и скрывался в глазной впадине; им, возможно, и объяснялся её упрямый, слегка косящий взгляд, отчего от всего её облика веяло подспудной напряжённостью, за что Паоло прозвал её L'Ammutinata, Бунтарка.
— Вижу, вы не стали снова его записывать, — сказал граф.
— В основном мы его скрыли, — объяснил Паоло. — Городской совет решил, что урбинцы ещё не готовы увидеть свою даму с таким некрасивым шрамом.