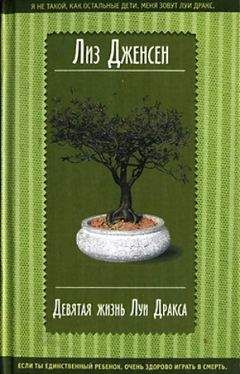– Мне постоянно снится этот сон, – шепчет она. – Каждую ночь одно и то же. Как в кино. Я не вижу лиц, только темные силуэты. Как будто я их нарочно стерла. Два силуэта дерутся, один большой, второй маленький, вдалеке. Слишком близко к краю. Я кричу. Но они меня не слышат, я далеко. Я ничем не могу помочь. Совсем ничем. А потом он падает. И тогда я просыпаюсь.
Ее глаза стекленеют; потом, словно пытаясь проснуться, она трясет головой и моргает.
– Простите, что спрашиваю, – говорю я. – Когда это случилось – что сделал ваш муж? Потом?
– Пьер? – Она умолкает, кусая губы, и отворачивается. А потом глухо произносит, опустив голову: – Подошел и заглянул вниз. Но Луи уже упал в воду. Не на что было смотреть.
Мы далеко от палаты, нас оттуда не слыхать, но мы продолжаем говорить шепотом. На фоне темных лавровых кустов Натали такая маленькая и хрупкая. Золото волос в красноватых бликах, словно в прожилках меди. Я чувствую, как солнце жжет мне спину.
– Он убежал. Бросил меня одну. Я кричала и звала на помощь.
Голос ее снова тусклый, вообще без эмоций. Натали стоит ко мне в пол-оборота, и я вижу, как наливаются румянцем ее щеки. Сквозь стеклянные двери просматривается вся палата. Мы видим Луи: его тело низким холмиком вытянуто под простыней. Натали смотрит на сына, а потом, словно боль этого зрелища переполнила ее душу, разворачивается ко мне, и глаза ее полны слез.
– Видите, каким трусом оказался мой муж! – выпаливает она. – Видите, что он сделал с собственным сыном? И сбежал!
Мне хочется утешить ее, сказать, что не все мужчины таковы и что ее муж наверняка…
Но слов нет. Я просто обхватываю ее лицо руками – какой совершенный овал! – и целую. Она не сопротивляется; она отдается поцелую так трогательно, почти с благодарностью, и мне трудно представить, что эта самая женщина была холодна, застенчива и неприступна; быть может, думаю я, ее сопротивление было всего лишь трюком моего воображения, домыслом совести, что меня отгоняла? Натали пахнет теми же духами, что и вчера. Терпко, чувственно. Или все дело в солнце, что обжигает спину? Зачем я это сделал? Как посмел? Я провалился в этот хмельной поцелуй, оступился, словно лунатик. Я иду ко дну.
– Со мной такое в первый раз, – говорю я, мягко отстраняясь.
Я потрясен, я боюсь, что шокировал Натали.
– Вы никогда прежде не целовали матерей своих пациентов? – тихо произносит она.
Слезы еще не высохли у нее на щеках, и я нежно их смахиваю.
– Никогда.
– Очевидно, это честь для меня.
– Вы просто обворожительны. Я не смог удержаться.
– Не смогли?
– Я пытался держать себя в руках, – сознаюсь я. – Следует ли мне… и впредь?…
– Находить меня обворожительной или держать себя в руках?
– Держать себя в руках.
– Да. Хотя бы на первых порах. Я еще не готова. Я уверена, вы понимаете.
Но она не сопротивляется, когда я снова наклоняюсь ее поцеловать. На этот раз я проваливаюсь в поцелуй еще глубже, и снова оказываюсь в другом измерении, и тону. Тону…
И вдруг замираю. Я даже не знаю, что это, нехорошее предчувствие, аморфный страх, мурашки по телу – что-то не так. То ли вспомнилось предупреждение Филиппа Мёнье, то ли стыдно перед Софи. То ли что-то совсем другое. Шум вдалеке? Инстинкт? В общем, что-то заставляет меня открыть глаза посреди поцелуя и посмотреть через окно в палату, и от увиденного – резкое, решительное движение на дальней кровати – я обмираю и тихо вскрикиваю. Отстраняюсь от Натали, сердце натужно колотится.
Что такое? – встревоженно спрашивает Натали. Я что-то говорю немым ртом. Не могу оторвать глаз от палаты.
Где сидит в кровати Луи Дракс.
* * *
Видите, каким трусом оказался мой муж! Что он сделал с собственным сыном? И сбежал.
Меня как будто бьет током, и я сажусь в кровати.
Они целовались.
Разве можно так поступать? От этого будут неприятности, и все закончится слезами. Слишком яркое солнце. Если долго смотреть на солнце, можно ослепнуть.
– Где мой Папá?
Когда я был маленьким, лет вроде как пять или шесть, у меня была куча дурацких мягких игрушек. Не смейтесь, я ведь был крохой, у всех крох есть дурацкие мягкие игрушки, особенно если они часто лежат в больнице, а Экшн Мэна[40] не любят, потому что он голубой и неудачник. Когда мне было семь или восемь, я собирал все мягкие игрушки и играл в Смерть. Я выстраивал их рядком – Мсье Пингвина, Кролика, Пифа и Пафа – они кенгуру, Кошонета,[41] который на самом деле лось, потом черно-белого кота Минетта, и они все по очереди умирали. Иногда они умирали геройской смертью, в борьбе с Силами Зла, а иногда с ними происходили всякие неприятности – они тонули, или их душили, или они вычитывали про всякие опасные лекарства и яды и ими травились. Отравиться легко – нужно просто достать нужную книжку, например про фунгусы, или медицинскую энциклопедию. Инсулин. Хлороформ. Мышьяк. Газ зарин. Семена люпинов. Глотнул – и тебе конец.
Иногда Пиф с Пафом договаривались умирать на пару. Самое интересное – это когда Пиф клала Пафа в сумку и забиралась в мою модель аэроплана, и они вылетали через окно и разбивались насмерть во дворе. Супер. Им тоже нравилось, потому что это был настоящий камикадзовский трюк.
Когда умирала игрушка, мы с остальными игрушками устраивали Ритуальные Услуги. Все звери клали мертвеца в гроб – коробку из-под обуви – и говорили речи. Иногда про то, как они скорбят. Я скорблю, я глубоко скорблю. А иногда они смеялись. Однажды Кошонет убил Мсье Пингвина – засунул его в понарошную микроволновку – и сказал: если бы я мог, я бы снова его убил, потому что Мсье Пингвин плохой, я его ненавидел. Он заслужил смерть, ему вообще надо было пипиську отрезать.
– А почему только Пиф и Паф? А где же у Пафа Папá? – спрашиваю я у Маман, когда мы с игрушками доели наш похоронный попкорн.
– У Пафа нет Папá, – говорит Маман. Она опять листает журнал для красивых леди.
– Почему это? У всех должны быть Папá.
– Вообще-то ничего подобного, – говорит Маман. Она откладывает журнал для красивых леди и смотрит на Папá, который читает спортивную колонку в газете.
– Как это?
– А так. Некоторые папы не имеют права иметь детей, – отвечает Маман. – А другие вообще только делают вид, что они отцы. Если б они были мужчинами, занимались бы семьей, а не томились по дурацкому прошлому и не лелеяли бы несбыточные мечты.
Папá закрывает газету и выходит из комнаты. Слышно, как он грохает дверью в прихожей, потом выходит на улицу и заводит машину.
– Куда он поехал?
– В аэропорт, – говорит Маман. – И оттуда полетит в небо.
И Папá снова нас бросает. Он долго не возвращается, живет в Париже со своей злючкой мамой, ее зовут Люсиль или Мами. Она плохо влияет на Папá, балует его, обращается с ним как с маленьким, и он наверняка верит, когда Мамй говорит всякие глупости про Маман, потому что Мами ненавидит Маман, она считает, что ее драгоценный сыночек достоин лучшей женщины, она прямо так и говорит. Она промывает Папá мозги, а это худшее, что может сделать мать, ни одна порядочная мать не станет манипулировать чувствами своего сына.
После того как уехал Папá, мы перенесли телевизор на кухню, и я теперь могу ужинать и смотреть телевизор. Маман вообще не ужинает, потому что все время сидит на диете, чтобы не потолстеть. Сейчас время мультяшек, показывают «Астерикса». Маман сидит рядом и читает в журнале статью – там еще фотография тетеньки и дяденьки, которые женятся. А статья называется НА ТРЕТИЙ РАЗ ДОМИНИКУ УЛЫБНУЛОСЬ СЧАСТЬЕ.
– Кто такой Доминик?
– Известный актер.
– А почему счастье улыбнулось только на третий раз?
– Потому что он женится третий раз. Когда у человека что-то не получается два раза подряд, ему говорят, что на третий раз должно улыбнуться счастье, – чтобы ему повезло.
– А сколько ты раз была замужем?
Маман смеется:
– Один.
– А Папá?
Маман откладывает статью про Третий Раз и смотрит на меня:
– Тебе что-то Люсиль сказала?
– Нет. Может быть.
Наш с тобой секрет, сказал Папá. Маман долго молчит, а потом говорит быстро-быстро, словно хочет разделаться с этим поскорее:
– До меня Папá был женат, но они прожили очень недолго, и он ее не любил, ему только так казалось. Этот брак был ошибкой. А потом Папá встретил меня, и меня он действительно любит. Гораздо сильнее, чем ее.
– А она кто?
– Никто. О ней и сказать-то нечего. Папá ее бросил. И это было давно. Они развелись. Понятно?
– А почему тогда он расстраивается?
Маман долго смотрит на меня, как будто я Чекалдыкнутый.
– Я разве говорю, что он расстраивается?
– Нет.
– Тогда с чего ты взял?
– Не знаю.
Я все еще чувствую себя Чекалдыкнутым. По ее глазам нельзя сказать, что с ней, потому что они никогда не меняются, словно там внутри ничего нет. Это она так скрытничает.