Глаза походили на коричневые стеклянные шарики. Растрепанные волосы и борода были такими длинными, что казалось вполне вероятным, что они продолжали расти еще много месяцев после смерти мужчины. Губы усохли и из-за сокращения лицевых мышц растянулись в ужасном оскале, обнажив зубы и десны.
Именно зубы производили самое жуткое впечатление. Передние зубы, не выпавшие от цинги, были желтыми, очень широкими и невероятно длинными — три дюйма, самое малое, — словно они продолжали расти, как на протяжении всей жизни растут резцы у кролика или крысы, пока не загибаются и не вонзаются в собственное горло животного, если их постоянно не стачивать обо что-нибудь твердое.
Зубы мертвеца были поистине невероятными, но Крозье все смотрел на них в сером сумеречном свете, проникавшем сквозь иллюминатор в потолке своей бывшей каюты. Это, осознал он, не первая невероятная вещь, которую он увидел или пережил за последние несколько лет. И вполне возможно, не последняя.
«Пойдем», — знаком сказал он Безмолвной. Он не хотел посылать мысли здесь, где все вещи слушали и слышали.
Крозье пришлось воспользоваться пожарным топором, чтобы вскрыть задраенный и заколоченный главный люк. Не задаваясь вопросом, кто задраил люк и зачем — или задраил ли его столь прочно человек, чей труп сейчас лежал в каюте внизу, — он отбросил топор в сторону, выбрался на верхнюю палубу и помог Безмолвной подняться по трапу.
Ворон беспокойно зашевелился, пробуждаясь, но снова тихонько засопел, когда Безмолвная укачала его на руках.
«Подожди здесь», — знаками сказал он и снова спустился вниз.
Сначала он вынес на верхнюю палубу тяжелый теодолит и несколько своих старых справочников, быстро снял показания прибора и нацарапал координаты своего местоположения на полях пропитанного солью судового журнала. Потом он отнес теодолит и книги обратно вниз и бросил там, хорошо понимая, что произведенное в последний раз вычисление координат корабля является, наверное, самым бесполезным и бессмысленным поступком из всех, какие он совершал в течение своей долгой жизни, состоявшей из бесполезных и бессмысленных поступков. Но он также понимал, что должен сделать это.
Как должен сделать то, что сделал в следующую очередь.
В темной пороховой камере он вскрыл один за другим три бочонка с порохом и содержимое первого высыпал на пол средней палубы и ступеньки ведущего в трюм трапа, содержимое второго растряс по всей жилой палубе (в частности за открытой дверью своей каюты), а содержимое третьего рассыпал черными полосами по верхней палубе, где стояла Безмолвная с детьми. Асиаюк и восемь остальных эскимосов обогнули корабль и теперь наблюдали за происходящим со стороны левого борта, с расстояния тридцати ярдов.
Крозье хотел остаться под открытым небом, пусть даже сумеречным, но заставил себя еще раз спуститься на среднюю палубу.
Из последнего оставшегося на корабле бочонка с керосином он расплескал горючее во всех трех палубах, хорошенько облив двери и переборки собственной каюты. Он поколебался с минуту всего лишь раз, в дверях кают-компании, глядя на стеллажи с сотнями томов.
«Господи, что плохого в том, если я возьму несколько книг, чтобы коротать за ними время долгими темными зимами?»
Но теперь в них обитала инуа мертвого корабля. Чуть не плача, Крозье плеснул на стеллажи керосином.
Разлив остатки горючего по верхней палубе, он отшвырнул пустой бочонок далеко на лед.
«Одна последняя ходка вниз, — на пальцах сказал он Безмолвной. — Спускайся с детьми на лед, любимая».
Шведские спички лежали там, где он их оставил: в ящике его стола.
На мгновение Крозье показалось, будто он слышит скрип койки и шорох обледенелых одеял, под которыми шевелится мумифицировавшийся труп. Он явственно услышал треск иссохших сухожилий, когда мертвая коричневая рука с длинными коричневыми пальцами и ужасно длинными желтыми ногтями медленно поднялась и потянулась к нему.
Крозье не повернулся. И не побежал. И не глянул через плечо. Он медленно вышел из каюты, переступая через полосы черного пороха и лужицы керосина.
Он немного спустился по главному трапу, прежде чем зажег и бросил первую спичку. Порох вспыхнул с громким хлопком, пламя охватило переборку, обильно политую керосином, и стремительно побежало к носу и корме по пороховому следу.
Хотя огня на одной средней палубе было вполне достаточно — шпангоуты и бимсы высохли до состояния трута в этой арктической пустыне, — он все же задержался, чтобы поджечь порох на жилой палубе, а затем на верхней.
Потом он одним прыжком покрыл десять футов до ледяного откоса с обращенного к западу борта и мысленно чертыхнулся от боли, пронзившей левую ногу, так и не выздоровевшую окончательно. Ему следовало спуститься по веревочному трапу, как наверняка хватило ума сделать Безмолвной.
Хромая, как старик, которым он, несомненно, скоро станет, Крозье спустился на лед и присоединился к остальным.
Корабль горел почти полтора часа, прежде чем затонул. Грандиозный пожар. День Гая Фокса за Северным полярным кругом.
Он мог запросто обойтись без пороха и керосина, понял он, глядя на бушующее пламя. Шпангоуты, парусина и доски так сильно высохли, что весь корабль вспыхнул, словно выпущенный из мортиры зажигательный снаряд, для пальбы которыми он и был сконструирован много десятилетий назад.
«Террор» затонул бы в любом случае, едва только лед здесь растает через несколько недель или месяцев. Прорубленное топорами отверстие в борту стало для него смертельной раной.
Но он сжег корабль не поэтому. Если бы кто спросил его (чего никогда не случится), он не сумел бы объяснить толком, почему «Террор» следовало уничтожить. Он знал, что не хочет, чтобы «спасатели» с британских судов побывали на покинутом корабле и вернулись на родину с рассказами о нем, нагоняющими страх на отвратительных граждан Англии и вдохновляющими мистера Диккенса или мистера Теннисона на достижение новых высот сентиментального красноречия. Он также знал, что эти спасатели вернутся в Англию не с одними только рассказами. То, что завладело кораблем, было заразным, как чума. Он видел это очами своей души и чуял всем своим нутром — как человеческим, так и нутром сиксам иеа.
Настоящие Люди радостно завопили, когда горящие мачты рухнули.
Им всем пришлось отойти на сотню ярдов. «Террор» прожег во льду свою собственную могилу, и вскоре после того, как охваченные огнем мачты с такелажем рухнули, горящий корабль начал с шипением и бульканьем погружаться в морские глубины.
Рев пламени разбудил детей, и воздух так нагрелся от огня, что все они — Безмолвная, хмурый Асиаюк, пышногрудая Науйя, охотники, блаженно ухмыляющийся Инупиюк и даже Та-лириктуг — сняли свои парки и свалили в кучу на каматике.
Когда представление закончилось, и корабль затонул, и солнце спустилось к южному горизонту, и длинные тени вытянулись на сером льду, они оставались там до последнего и ликовали при виде поднимавшегося над водой пара и горящих обломков, все еще валявшихся там и сям на льду.
В конце концов они двинулись обратно к большому острову и лежащим за ним малым островкам, рассчитывая достичь большой земли прежде, чем придется стать на ночлег. Дневной свет благоприятствовал походу до самой полуночи. Все они хотели поскорее уйти со льда и оказаться подальше от места гибели корабля до того, как наступят несколько часов полумрака, а потом кромешной тьмы. Даже псы перестали лаять и рычать и, казалось, налегли на постромки сильнее, когда они миновали последний островок на своем пути к большой земле. Асиаюк, под своими меховыми полостями на санях, спал и храпел, а оба ребенка бодрствовали и изъявляли готовность поиграть.
Талириктуг взял в левую руку сучащую ножками и ручками Каннеюк, а правой обнял за плечи Силну. Ворон, все еще сидевший на руках у матери, пытался вырваться, изъявляя желание идти на своих двоих.
Талириктуг — не в первый раз — задался вопросом, как отец и мать, лишенные языка, собираются воспитать из мальчика настоящего мужчину. Потом он вспомнил — тоже не в первый раз, — что теперь он принадлежит одной из немногих оставшихся в мире культур, где не ставят цели воспитывать из детей настоящих мужчин или женщин. Ворон уже обладал инуа какого-то взрослого мужчины. Его отцу остается лишь ждать, чтобы увидеть, насколько она достойна.
Инуа Френсиса Крозье, продолжавшая жить и здравствовать в Талириктуге, не питала никаких иллюзий относительно жизни — несчастной, убогой, отвратительной, жестокой и короткой.
Но возможно, она необязательно дается всего лишь раз.
Обнимая Силну за плечи одной рукой, стараясь не обращать внимания на заливистый храп шамана, на Каннеюк, только что написавшую на его лучшую летнюю парку, и на хныканье яростно брыкающегося сына, Талириктуг и Крозье продолжал шагать на восток по замерзшему морю к суше.
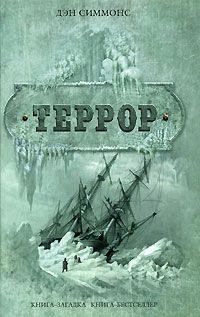
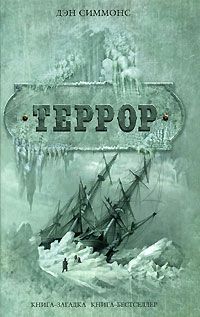

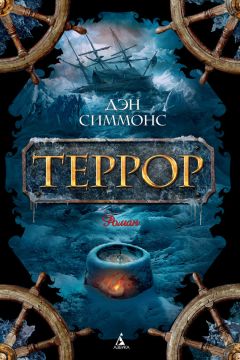
![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)