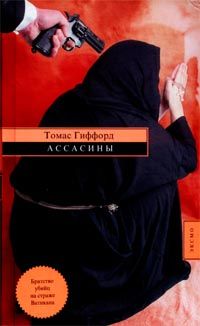Д'Амбрицци тоже поздоровался с ней очень приветливо, даже по-отцовски обнял за плечи, а затем выразил надежду, что она никуда не торопится. Им нужно поговорить наедине, пока Хиггинс будет заниматься своими делами. Санданато был вежлив, но сдержан, даже как-то излишне официален по контрасту с живым и веселым кардиналом. Когда Санданато с Элизабет вышли на улицу, кардинал стоял, привалившись спиной к лимузину и подставив лицо жарким лучам солнца, и оживленно рассказывал что-то Хиггинсу.
Поездка по жарким и пыльным, забитым машинами улицам города то и дело прерывалась остановками. Все выходили и принимались осматривать очередную достопримечательность. При этом кардинал вел Элизабет под руку, точно она заменила для него отсутствующую Вэл, которая так часто сопровождала его. Сзади шествовал Хиггинс, а за ним точно тень следовал монсеньер Санданато, строгий, но услужливый, всегда готовый распахнуть перед гостем дверцу лимузина, смахнуть пыль со скамьи или щелкнуть зажигалкой, когда кардинал доставал свои любимые черные египетские сигареты.
Кардинал не уставал давать пояснения. В какой-то момент Санданато даже пришлось напомнить ему принять лекарство, что он и сделал, запив минеральной водой, купленной с лотка. И вот теперь они ехали по набережной Тибра, и кардинал наконец умолк и с улыбкой смотрел на Элизабет и банкира, давая гостю возможность вдоволь налюбоваться видами и сравнить с тем, что он видел здесь прежде.
— Я не просто люблю этот город, — сказал Д'Амбрицци, когда машина двинулась дальше. Говорил он по-английски безупречно правильно, хоть и с сильным акцентом. — Можно сказать, что я и есть этот город. Порой кажется, я впервые оказался здесь еще в те времена, когда Ромул и Рем припадали к сосцам волчицы, и с тех пор не покидал этих мест. Не слишком католический подход, но именно так я чувствую. Я был здесь с Калигулой и императором Константином, потом с Петром, всеми Медичи и Микеланджело. Я чувствую их, я знаю и понимаю их. — Глаза его смотрели из складок кожи, и было в этом взгляде нечто таинственное и присущее вечности. Затем вдруг улыбнулся, словно радуясь какому-то секрету или фокусу, который маг и волшебник не в силах объяснить детям. И тут Элизабет увидела его глазами Вэл. В точности так ее подруга описывала этого человека, рассказывала, как он играл с Вэл и ее братишкой в Принстоне после войны. — Думаю, что знаю языческие храмы Рима даже лучше, чем дворцы сегодняшней Церкви. Я вижу их, слышу голоса консулов и сенаторов на Капитолийском холме, вижу все могущество и величие этого города... А потом вижу тот же холм, но только тысячелетие спустя, и монументы превратились в прах, а на смену поистине великим людям пришли козы, пощипывающие там травку. Кстати, мы приехали. Давайте выйдем и пройдемся немного. — Он и сам выглядел таким величественным в простой черной сутане. Ну, в точности Джордж Скотт, играющий Паттона[7].
Они прошли через Капитолийский холм, или, как он называется сегодня, Кампидоглио, самое сердце Вечного города, и все, что окружало их, восходило к дохристианскому периоду. И повсюду четыре заветные и бессмертные буквы: S.P.Q.R., Senatus Populusque Romanus. Поразительное место, и на всем лежит отпечаток древности, связывающий языческую и христианскую веры на протяжении многих веков. Вэл считала холм центром притяжения, как с точки зрения историка, так и монахини. Единственным в своем роде, уникальнейшим на планете местом, где некогда находилось самое сердце языческого мира, и все дороги дохристианской эпохи вели именно сюда, в Рим, ставший со временем первоисточником христианства.
Вокруг, куда ни глянь, ключом била жизнь: шумы, звуки, краски. Времена смешались, маятник раскачивался, прошлое сливалось с настоящим, язычество и христианство были так плотно связаны друг с другом, что разделить их было, казалось, невозможно. У сестры Элизабет даже голова слегка закружилась, в этом городе так причудливо соединялись святость и чувственность, грубость и человечность, так прекрасно уживались они со всем, что чтит и отрицает Церковь. А потом вдруг она обернулась и увидела, что кардинал наблюдает за ней и лицо его печально, даже мрачно.
Здесь замирал шум движения с Пьяцца Венеция. Они прошли через небольшой уютный садик, отделявший Виа Сан Марко от Пьяцца д'Аракоэли. Кардинал Д'Амбрицци сделал жест, словно обнимающий все вокруг — дворцы, площадь, холм, и произнес всего одно лишь слово:
— Микеланджело. — А потом весело взмахнул рукой и повлек ее за собой, к Пьяцца дель Кампидоглио.
Там, купаясь в ярких лучах солнца, высилась элегантная статуя Марка Аврелия на коне, рука указывает вперед, а за спиной блестят золотом купола Палаццо дель Сенаторе. Впервые увидев этот уголок города, осколок древнего мира, Микеланджело был страшно растроган и решил возвести статую именно здесь и покрыть ее золотом. Все остановились, любуясь ею, и Д'Амбрицци сказал:
— Знаете, мы можем видеть все это по чистому недоразумению. В Средние века, славившиеся религиозным фанатизмом, который зачастую граничил с варварством, считалось, что это статуя первого христианского императора Константина. Это ее и спасло. Знай они, что это Марк Аврелий, скульптуру бы уничтожили не задумываясь, как многие другие замечательные памятники.
Они подождали, пока монсеньер Санданато не прикурил ему очередную сигарету.
— Подобно вашему Чикаго, Кевин, весь Рим построен на легенде. Вот одна из них. Когда в один прекрасный день статуя вдруг снова станет золотой, это будет означать, что близок конец света. И оттуда, с холки лошади, прогремят слова, возвещающие Судный день. — Он умолк, глубоко вздохнул, затем продолжил: — Вообще эта статуя часто находила весьма своеобразное применение. Однажды ее привезли на пиршество, и из одной ноздри коня лилось вино, а из другой — вода. Причуда, сравнимая с обычаями ваших банкиров, Кевин... — Он рассмеялся. — Вы только скажите, какой момент в долгой и жестокой римской истории вас интересует, и подходящий пример тут же найдется. — Банкир недоуменно пожал плечами. — На этом месте в Средние века проводили публичные казни. Вообще, надо сказать, людей казнили повсюду, нужно было найти лишь подходящий повод.
Элизабет вдыхала запах кипарисов и цветов олеандра, на жарком солнце он всегда усиливался. Потом обернулась и поймала на себе взгляд больших черных глаз Санданато. Она ответила ему улыбкой, но он тут же отвернулся и принялся разглядывать знаменитый сад.
Д'Амбрицци продолжал демонстрировать Хиггинсу следы цивилизации дохристианского периода. И вот все они вошли в Пассаджио дель Муро Романо, где он указал на какие-то массивные, изъеденные непогодой серые камни, с виду ничем не примечательные.
— Вот все, что осталось от храма Юпитера. Шестой век до рождества Христова. В те дни солдатами Рима были простые пастухи, и концепции Бога в образе и подобии человеческом в их умах еще не существовало. И уж определенно никаких храмов в честь богов они не строили. Римляне поклонялись богам на открытых местах, у алтарей, сделанных из дерна. Но бессмертный Ливий рассказывает нам, что солдаты принесли сюда свои трофеи, разное награбленное добро. И сложили под дубом. И тогда цари Рима решили построить здесь храм Юпитера. — Он огляделся со странным выражением, словно услышал или увидел нечто знакомое. — Именно здесь проводились триумфальные шествия, празднования бесконечных побед. Тело генерала-триумфатора раскрашивали красной, как кровь, краской. Его одевали в пурпурную тунику, сверху накидывали красную тогу, расшитую золотом. На шею вешали лавровый венок, в руке он держал лавровую ветвь и скипетр слоновой кости. — Глаза под тяжелыми полуопущенными веками расширились и смотрели так, точно он воочию видел этот спектакль. Элизабет почти физически чувствовала исходившее от него возбуждение, волшебным образом оно передалось ей. — И вот он стоял, одетый, как бог, и предлагал принести жертву Юпитеру. И его врагов, которые содержались в темнице Мамертин, прямо здесь, под нами, казнили, отрубали им головы мечом... Да, дорогая моя сестра Элизабет, — хриплым шепотом продолжил он. — У меня не хватает воображения и слов, чтобы описать эти победные варварские ритуалы. Теперь здесь мы видим мрамор, золото и прекрасные статуи. Любуемся их изяществом, величием и красотой, носим красные сутаны... Позже они стали приносить в жертву коз, свиней и быков. Запах крови царил повсюду, люди теряли от него сознание, тоги пропитывались кровью и становились жесткими и негнущимися. Повсюду слышались визги и хрипы умирающих животных, в небе было темно от дыма и копоти, что поднимался от поджариваемых туш. По площади было невозможно пройти, она становилась скользкой от крови... Наши предки... некогда они стояли здесь же, где стоим теперь мы. Они верили в своих богов, как мы теперь верим в наших. Мы с ними едины, мы такие же... — Голос его упал почти до шепота.