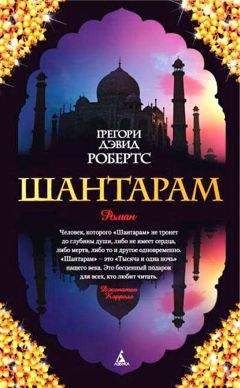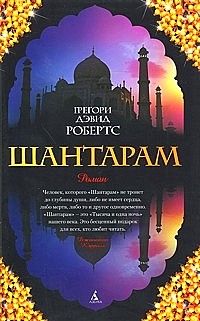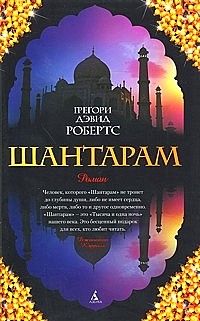— Я… не могу себя считать экспертом по козам…
— Постарайся, — настаивал Назир. — Постарайся вспомнить.
— Проклятье… Это просто случайный проблеск во тьме памяти, но мне кажется, пару литров в день… — предположил я, беспомощно разведя руками.
— Этот твой друг… сколько он зарабатывал как таксист? — спросил Сулейман.
— У твоего друга были женщины до свадьбы? — поинтересовался Джалалад, вызвав всеобщий смех, — некоторые даже начали бросать в него камешки.
В таком же духе и продолжалось это собрание, затронув все интересовавшие его участников темы, пока наконец я, извинившись, не нашёл относительно защищённое место, откуда мог бы внимательно разглядывать затянутое пеленой, холодное, мглистое небо. Я пытался подавить страх, беспокойно шевелящийся в моём пустом брюхе и внезапно хватающий острыми когтями сердце, стиснутое, как в клетке, рёбрами.
Завтра. Мы будем прорываться с боем. Никто не говорил об этом, но я знал: все думают, что завтра мы умрём. Уж слишком они веселы и спокойны. Казалось, что всё напряжение и ужас последних недель исчезли теперь, когда принято решение сражаться. И это не было радостным облегчением людей, знающих, что они спасены. То было нечто, увиденное мною в зеркале, в тюремной камере, в ночь перед моим безрассудным побегом, и нечто, увиденное в глазах человека, бежавшего вместе со мной. То было весёлое оживление людей, рисковавших всем — своей жизнью и смертью, — поставивших всё на карту. Наступит некий час следующего дня, и мы будем свободны или мертвы. Та же решимость, что толкнула меня на тюремную стену, вела теперь нас через горный хребет на вражеские автоматы: лучше умереть в бою, чем как крыса в западне. Я бежал из тюрьмы на другой конец света, прошёл через годы, чтобы оказаться в компании людей, точно так же, как я, ощущающих свободу и смерть.
И всё же я боялся, что меня ранят, что пуля попадёт в спину, и я буду парализован, что меня схватят живым и будут мучить новые тюремщики в новой темнице. Мне пришло в голову, что Карла и Кадербхай могли бы сказать мне что-нибудь умное по поводу страха. Вспомнив о них, я понял, как далеки они были от этого мгновения, этой горы и от меня. Понял, что не нуждаюсь больше в их блестящих умах: они ничем не могли мне помочь. Вся мудрость мира не могла помешать моему животу стягиваться в узел от гнетущего страха. Когда знаешь, что идёшь на смерть, разум не приносит утешения. Когда приходит конец, понимаешь тщету гения и пустоту ума. А утешение можно найти, если оно, конечно, посетит тебя, в той странной, холодной как мрамор, смеси времени и места, ощущении, которое мы обычно и называем мудростью. Для меня в эту последнюю ночь перед боем то было звучание материнского голоса, то была жизнь и смерть моего друга Прабакера… Упокой тебя Бог, Прабакер. Я по-прежнему люблю тебя, и печаль, когда я думаю о тебе, входит в моё сердце и горит в моих глазах яркими звёздами… Моим утешением на этой промёрзшей горной гряде была память об улыбке на лице Прабакера и звучание голоса моей матери: «Что бы ты ни делал в жизни, делай это, не теряя мужества, и ты не сделаешь слишком много плохого…»
— Вот возьми, — сказал Халед, соскальзывая вниз, присаживаясь на корточки рядом со мной и протягивая мне один из двух окурков, зажатых в ладони.
— Господи Иисусе! — воскликнул я, открыв рот от изумления. — Где ты их взял? Я-то думал, все они выкурены ещё на прошлой неделе!
— Так оно и есть, — сказал он, щёлкая газовой зажигалкой. — Кроме этих двух. Я держал их для особого случая. Думаю, что он настал. У меня плохое предчувствие, Лин. Очень плохое. Сидит где-то внутри, и я не могу его вытряхнуть сегодня.
Впервые с того вечера, когда Кадер покинул нас, Халед сказал больше одного-двух необходимых слов. Мы работали и спали бок о бок каждый день и каждую ночь, но я почти никогда не встречался с ним глазами и так явно и холодно избегал разговора с ним, что и он молчал.
— Послушай… Халед… насчёт Кадера и Карлы… не думай… я вовсе…
— Нет, — прервал он меня. — У тебя было множество причин, чтобы впасть в неистовство. Могу поставить себя на твоё место. Всегда умел взглянуть на вещи глазами другого человека. К тебе несправедливо относились, и я сказал об этом Кадеру в ночь его отъезда. Ему следовало бы доверять тебе. Смешно, но человек, которому он доверял больше, чем кому-либо, единственный в мире человек, на которого он всецело полагался, оказался безумным убийцей, продававшим нас с потрохами.
Нью-йоркский акцент с арабским нарастанием и ослаблением звука перекатывался через меня подобно тёплой пенящейся волне, и мне хотелось подойти и обнять его. Мне не хватало той уверенности, которую я всегда ощущал в звучании его голоса, и искреннего страдания на его изуродованном шрамом лице. Я был так рад вновь чувствовать его дружеское отношение, что не совсем уловил сказанное им о Кадербхае. Подумал, толком не осознав этого, что он говорит об Абдулле. Но он говорил не о нём, и шанс узнать всю правду в одном разговоре был потерян чуть ли не в сотый раз.
— Насколько хорошо ты знал Абдуллу? — спросил я.
— Достаточно близко, — ответил он, и лёгкую улыбку на его лице сменило выражение неодобрительного недоумения: «К чему, мол, ты клонишь?»
— Тебе он нравился?
— Не особенно.
— Почему?
— Абдулла ни во что не верил. Он был бунтарём без причины в мире, где не хватает тех, кто бунтует ради подлинных целей. Я не люблю и не доверяю по-настоящему людям, лишённым веры.
— В их число вхожу и я?
— Нет, — рассмеялся он. — Ты во многое веришь, поэтому я и люблю тебя. И Кадер тебя любил за это. Он ведь любил тебя, ты знаешь. Кадер даже говорил мне об этом пару раз.
— Во что же я верю? — спросил я, усмехнувшись.
— Ты веришь в людей, — поспешно ответил он. — Вся эта история с трущобной клиникой, например. Твой вчерашний рассказ о той деревне. Если бы ты не верил в людей, давно бы позабыл всю эту чепуху. Твоя работа в трущобах, когда там началась холера, — на Кадера это произвело большое впечатление, да и на меня тоже. Чёрт побери, наверно, даже Карла верила в тебя какое-то время. Ты должен понять, Лин: если бы у Кадера был выбор, если бы существовала возможность сделать то, что он должен был сделать, как-то иначе, лучше, он бы выбрал именно её. Всё закончилось так, как и должно было. Никто не хотел выставить тебя на посмешище.
— Даже Карла? — спросил я, с наслаждением докуривая сигарету и гася её о землю.
— Ну, Карла была на это способна, — сдался Халед, грустно улыбнувшись уголками рта. — На то она и Карла. Думаю, единственный мужчина, которого она не унижала, — Абдулла.
— Они были вместе? — спросил я, удивляясь сам себе, что не смог избежать укола ревности, заставившего меня нахмуриться и исказившего лицо недовольной гримасой.
— Ну, не то, чтобы вместе, — спокойно ответил он, глядя мне прямо в глаза. — Но я был с ней. Мы жили одно время вместе.
— Ты… что?!
— Я жил с ней полгода.
— А что случилось дальше? — спросил я сквозь зубы, чувствуя себя ужасно глупо. Я не имел права сердиться или ревновать. Никогда не расспрашивал Карлу о её любовниках, но и она мне не задавала подобных вопросов.
— А ты разве не знаешь?
— Знал бы, не спрашивал.
— Она выбросила меня на свалку, — медленно проговорил он, — как раз незадолго до твоего появления.
— Проклятье!
— Да ладно, чего уж там… — улыбнулся Халед.
Мы замолчали: каждый из нас прокручивал в памяти ушедшие годы. Я вспомнил Абдуллу у прибрежной стены близ мечети Хаджи Али в ночь, когда я встретил его с Кадербхаем. Припомнил, что он сказал, будто какая-то женщина научила его умному изречению, которое он воспроизвёл по-английски. По-видимому, это была Карла. Конечно, Карла. И ещё вспомнилась холодность Халеда при нашей первой встрече: я вдруг понял, как ему было больно тогда, — возможно, он именно меня считал виновным в этом. Теперь я хорошо представлял, чего ему стоило быть таким дружелюбным и добрым ко мне в начале нашего знакомства.
— Видишь ли, — вновь заговорил он через некоторое время, — тебе действительно нужно вести себя осторожно с Карлой. Знаешь, Лин, она… очень рассержена — её жестоко обидели. Над ней надругались, когда она была ребёнком. Она немного не в себе. И ещё: в Штатах, до приезда в Индию, она занималась чем-то таким, что страшно повлияло на её психику.
— А чем она занималась?
— Не знаю. Чем-то серьёзным. Никогда об этом не говорила, всё только вокруг да около, ну ты сам понимаешь. Думаю, что Кадербхай обо всём знал: он ведь первым встретил её.
— И я ничего не знаю об этом, — сказал я, угнетённый мыслью, что так плохо осведомлён о женщине, которую долго любил. — Но почему… как ты думаешь, почему она никогда не говорила мне о Кадербхае? Я ведь давно знаю Карлу, мы оба работали на него, и она ни слова о нём не проронила. О нём говорил я, а она хранила полное молчание. Ни разу даже не упомянула его имени.