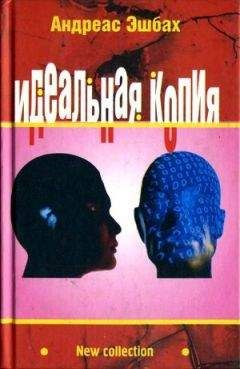Бородач тяжело вздохнул:
– Я просто выполняю свою работу. А вы больше дергаетесь, чем обычно, вот и все.
– Дергаюсь? Конечно, я, черт возьми, дергаюсь. Главный редактор должен дергаться, и еще как, иначе он ни на что не годен. Вы думаете, я могу спокойно спать? После всей этой подготовки, всех денег, которые мы угрохали? Стоит кому-нибудь напасть на тот же след и опубликовать материал в другой газете – и все, я больше не главный редактор. Меня после такого позора даже дворником никто не возьмет.
– Никто не нападет на тот же след. То, что знаю я, не знает никто другой.
– Вы всегда так говорите.
– Ну хорошо, представьте себя на моем месте. Неужели вам не хотелось бы полностью удостовериться в том, что все, что вы пишете, – правда?
Снова пыхтение и пауза. На заднем плане слышен гул голосов и перестукивание клавиатур.
– Мне нужны иллюстрации. Достаточно одной, Томмазо, пожалуйста. Чтобы я мог их показать на летучке. И напишите наконец хоть что-нибудь, иначе я сам это сделаю.
Бородач вздохнул.
– Хорошо. Я пошлю вам все, что у меня есть на данный момент, если вы пообещаете мне, что ничего из этого не появится в печати.
– Заметано. Фото есть?
– Получу послезавтра.
Последняя реплика не привела собеседника на том конце провода в восторг. И все же он сказал:
– Хорошо. Посылайте что есть.
Положив трубку, бородач поднялся с кровати и поплелся к заваленному рекламками письменному столу, на котором стоял его ноутбук. Но он ничего не написал, а только бессмысленно уставился на белую стену напротив. Затем он схватился за голову и пробормотал себе под нос:
– Porco dio! Что же я наделал?
Весь концерт Вольфганг умирал мучительной смертью. Под рубашкой в три ручья тек пот, но он нисколечко не удивился бы, если бы оказалось, что это не пот, а кровь. Невозможно было описать, как играл молодой японец. Невозможным казалось и то, что отец всерьез верил в то, что он, Вольфганг Ведеберг, сможет когда-нибудь хоть на капельку приблизиться к такому мастерству. А он ведь и правда в это верил. То и дело, после каждого головокружительного пассажа, отец посматривал на него с таким видом, как будто хотел сказать: ты следующий.
Да никогда в жизни! Никогда в жизни не сможет он так играть. Пальцы Хируёки буквально танцевали по струнам. Его смычок казался живым. И, конечно же, он все играл наизусть, без нот. Вольфганг смотрел на него и казался себе грузовиком, от которого ожидают, что он будет участвовать в ближайших гонках «Формулы-1» и даже займет на них первое место.
Он как можно глубже забился в кресло и мечтал только об одном – провалиться под землю. Все вокруг исчезло за густым туманом, реальны были только он и виолончелист на сцене и эта мелодия, которую тот непринужденно извлекал из своего инструмента. Голову Вольфганга наполнили причудливые фантазии: ему казалось, что после концерта все станут показывать на него пальцами и смеяться над ним или заставят его выйти на сцену и повторить то, что сыграл Хируёки, а он, весь красный от стыда, попробует – и опозорится на всю жизнь. Ему казалось, что в зале никто уже давно не слушает музыку, а все лишь смотрят на него и удивляются наглости, с которой он всерьез намеревался сравняться с таким виртуозом.
Хируёки играл настолько… непринужденно. Вольфганг в растерянности смотрел на японца. Тот был сосредоточен, это верно, но его пальцы исполняли самые сложные пассажи так уверенно, что казалось, можно удвоить ритм, и он сыграет в два раза быстрее, но так же четко и без ошибок. Ошибки? Похоже, Хируёки Мацумото вообще не знал, что это такое.
В этот вечер земля не поглотила его, пот все так же стекал по его спине, и никто не показывал на него пальцем и не смеялся. Тем не менее в тот вечер, сказал себе Вольфганг, он смог ответить на один давно мучивший его вопрос, вопрос об истинной силе его дарования.
Несомненно, некоторый талант у него был. Одного выступления перед учительницей музыки в пятом классе ему хватило, чтобы обеспечить себе вечную пятерку по музыке, независимую от его успеваемости. Он хорошо знал множество классических пьес для виолончели и мог бы, не опозорившись, сыграть в струнном квартете.
Однако, чтобы приблизиться к тому мастерству и легкости, которые он видел на сцене, одних упражнений было недостаточно. Между ним и Хируёки зияла непреодолимая пропасть.
Когда все наконец закончилось, он был счастлив. Он хлопал вместе со всеми, но ему казалось, будто вместо ладоней он ударяет друг о друга два мокрых мешка. Выходя из зала, он двигался как чурбан, потому что рубашка от пота прилипла к телу. Стоял свежий майский вечер; когда они вышли на улицу, он замерз.
– Было прекрасно, не правда ли? – спросил отец в самом превосходном расположении духа. И мама поддакивала ему! Вольфганг молчал и мысленно проклинал каждый метр пути до парковки.
– Ну и как? – спросил отец, когда они наконец дошли до машины. – Разве я тебе не говорил?
Вольфганг почти падал с ног от изнеможения.
– Да, – выдавил он и обхватил себя руками, чтобы согреться.
– Когда-нибудь, – продолжал отец свое вдохновенное предсказание с ключом зажигания в руках, – мы вернемся сюда и все будет так же, как сегодня. С той лишь разницей, что на плакатах будет стоять имя Вольфганга Ведеберга.
«Никогда в жизни», – подумал Вольфганг, но ему не хватило сил произнести это вслух. Вместо этого он попросил:
– Может, мы сядем в машину? Мне холодно.
Ширнтальская гимназия была старым неуклюжим зданием с высокими окнами, обрамленными желтым песчаником. Когда они учились в шестом классе, учитель по природоведению имел привычку открывать окно и спрашивать: «Какой камень лежит в верхних пластах Шварцвальда? Цветной песчаник, господа!» Затем он стучал кулаком по раме, повторяя: «Цветной песчаник. Название указывает на то, что он бывает разных цветов, и здесь мы имеем, как нетрудно заметить, желтый». Из того же желтого песчаника была высечена высокая арка над главным входом, над которой большими буквами было выгравировано: «Высшая школа». Висящий тут же жестяной фонарь несомненно тех же времен, когда еще говорили: «Высшая школа» вместо «Гимназия».
По утрам на маленькой площади перед школой царила настоящая давка. По сути, это была даже не площадь, а въезд на парковку под школой для учителей. С семи утра сюда подъезжали школьные автобусы, выплевывая толпы учеников, которые группами толпились на старой булыжной мостовой, с большой неохотой пропуская машины учителей. Только те, кому надо было успеть списать домашнее задание, в силу необходимости сразу же поднимались в класс.
Вольфганг с самого утра был не в духе. И даже встреча с лучшим другом и соседом по парте, никогда не унывающим, неистощимым на выдумки Чемом, и его жизнерадостное приветствие не прибавили ему настроения.
– Дружище, не делай такого лица, – с вызывающей ухмылкой воскликнул Чем, – у нас через две недели каникулы, и, кроме того, только не оборачивайся, но сейчас, прямо в этот момент, она смотрит на тебя, клянусь!
– Что? Правда? – Вольфганг завертел головой по сторонам, пока не заметил ее. Свеня. Она стояла вместе с парой девчонок из параллельного класса и, конечно же, не смотрела на него.
– Сейчас-то уже нет, – буркнул Чем, – ты ее спугнул, когда вертелся.
Первым уроком была биология. В школе еще царило то, что Чем обозвал «клономанией». Две недели назад кубинский врач по имени Фраскуэло Азнар шокировал общественность заявлением, что шестнадцать лет назад он по инициативе немецкого ученого, который работал вместе с ним, клонировал человека, тот щедро заплатил ему и не назвал своего имени. С тех пор пресса не знала другой темы, всех интересовало, кто этот клон. Несколько лет назад, в результате неудачного эксперимента, Азнар ослеп и не мог опознать своего бывшего коллегу ни по фотографиям с конференций, ни каким-либо иным способом, что делало интригу еще более захватывающей.
Весь преподавательский состав ширнтальской гимназии впал в клоновую лихорадку. Игнорируя официальный учебный план, каждый учитель старался рассказать на своем уроке о том, что хотя бы отдаленно имело отношение к клонам. Одним словом, началась клономания.
На уроке биологии сделать это было легче всего – тема деления и размножения клеток предлагала широкое поле для повторения и углубленного изучения предмета. Но в понедельник утром завесить окна биологического кабинета и бесконечно показывать слайды делящихся клеток – это было слишком даже для Халата, – так ученики прозвали преподавателя биологии, доктора Кистнера, за вечно болтающийся на его сухопарой фигуре белый лаборантский халат.
– Ты должен с ней поговорить, – убеждал Вольфганга Чем, пока Халат рассказывал что-то, дергая указкой у экрана, – иначе ничего не получится.
Вольфганг угрюмо уставился на очередной слайд, показывающий окруженную сперматозоидами яйцеклетку.