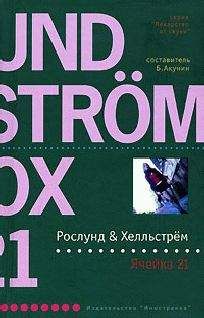Все они какие-то поникшие были, бледные и с виду жутко уставшие.
Кто-то лежал, кто-то сидел, завернувшись в простыню, некоторые разговаривали, стоя у окна. Вдоль стены – восемь кроватей в ряд, это и есть медицинский изолятор. Папа сидел на самой дальней койке.
Посмотрела на него украдкой Лида – и показалось ей, что он как будто бы стал ростом меньше.
А он ее не увидел. Пока.
А она ждала довольно долго.
Мама первой к нему подошла, они о чем-то принялись разговаривать, но она ни слова не расслышала. Лида его все рассматривала, а потом поняла, что вовсе больше его не стыдится. Она припомнила весь этот год прошедший, издевательства одноклассников, что не имели вообще никакого значения вот теперь, когда она тут стоит совсем близко к нему. Да к тому же и в животе больше ни капельки не кололо.
И когда она обняла его, он стал кашлять, но она не подумала выходить из комнаты, как маме пообещала. Крепко-накрепко вцепилась и не собиралась отпускать.
Ненавидела она его, домой бы его забрать.
В квартире было тихо.
Давненько она о нем не вспоминала, да и вообще обо всем об этом. А вот теперь сидела и думала. Как они обнялись тогда, как сидел он тогда в Лукишкесе, а ей и было-то десять лет, а он казался таким маленьким и кашлял, сотрясаясь всем телом, а мама протянула ему бумажку, чтоб завернуть кровавую мокроту, и бросила комок в большую бочку в коридоре.
Она и не поняла, что это было в последний раз. Она и сейчас этого еще не понимала.
Лидия глубоко вздохнула.
Она стряхнула с себя оцепенение, улыбнулась большому зеркалу в прихожей. Стояло раннее утро.
В дверь постучали. Она все еще держала в руке расческу. Сколько она тут просидела? Она снова взглянула в зеркало. Так, голову набок. Опять улыбнулась, желая выглядеть получше. На ней было черное платье – темная ткань на светлой коже. Тело – она оглядела себя – как и было, молодое. Не слишком-то она и изменилась с тех пор, как приехала сюда. По крайней мере, внешне.
Она подождала.
Постучали снова, посильнее. Надо открывать. Она положила расческу на полку под зеркалом и пошла к двери. Ее звали Лидия Граяускас, и у нее была привычка напевать свое имя. Так и сейчас – она напевала детскую мелодию, которую помнила со школьных клайпедских времен. Припев из трех строчек, а вместо слов – Лидия Граяускас. Она всегда так делала, когда нервничала:
Лидия Граяускас.
Лидия Граяускас.
Лидия Граяускас.
Она подошла к двери и перестала петь. Он стоял с другой стороны. И если приложить ухо, то можно услышать его дыхание, она его узнала по этому ритму. Они уж встречались несколько раз. Восемь. Или девять? Он по-особенному пах. Она помнила его, этот запах, – как у мужиков, с которыми папа работал, она еще маленькая была. В той загаженной комнате, где диван. Вот почти такой же запах – сигареты, какой-то мужской одеколон и пот из-под толстой ткани пиджака.
Он постучал. В третий раз.
Дверь открылась. Он стоял в проеме. Темный костюм, светло-голубая рубашка, золотой зажим для галстука. Короткие светлые волосы. Загорелый. Дожди лили всю вторую половину мая, а у него загар, как будто конец лета. Вот он всегда такой. Она улыбнулась, как тогда перед зеркалом, – знала, что ему это нравится.
Они не обнялись.
Пока.
Он переступил через порог, зашел в квартиру. Она глянула на вешалку: давай-ка я повешу твой пиджак. Он покачал головой. Он был лет на десять старше ее, около тридцатника. Так она догадывалась – точно не знала.
Ей захотелось снова запеть.
Лидия Граяускас.
Лидия Граяускас.
Лидия Граяускас.
Он протянул руку, как обычно, скользнул осторожно пальцами по ее черному платью, медленно, от бантиков на плечах к груди.
Она замерла.
Его рука описала широкий круг вокруг одной ее груди, потом двинулась к другой. Она стояла не дыша, чтобы даже грудная клетка не шевельнулась, надо улыбаться, надо тихо стоять и улыбаться.
И когда он плюнул – она тоже улыбалась.
Они все еще стояли рядом. Он скорее уронил плевок, чем плюнул. Ведь черта с два метил ей в лицо, нет. Плевок приземлился прямо у ее ног, у черных туфель на высоких каблуках.
Ему нравилось, когда она мешкала с этим.
Он ткнул пальцем.
Прямой такой палец – прямо вниз.
Лидия наклонилась, по-прежнему улыбаясь ему. Она знала, что ему это нравится, – он и сам улыбался. Иногда. Чуть слышно хрустнуло в коленках, когда она согнула ноги и встала на четвереньки, лицом вниз. Она молила о пощаде. Он так хотел. Он выучил, как это будет по-русски, и проверял, действительно ли она говорит то, что нужно. Она медленно поджала руки, почти свернулась в комок, носом дотронулась до пола. На языке что-то холодное – это она слизнула плевок. Проглотила.
Потом поднялась. Он так хотел. Она закрыла глаза, как обычно, попыталась угадать, по какой щеке.
Левая. В этот раз будет левая.
Правая.
Он отвесил ей оплеуху всей ладонью, чтоб по всей щеке. На самом деле не слишком-то и больно. Розовое пятно расплывалось – он здорово размахнулся, но просто обожгло. Обожгло, как всегда, когда хотят только лишь обжечь.
Он опять ткнул пальцем.
Лидия знала, что она должна делать, так что можно было и не тыкать, но он тыкал. Каждый раз. Слегка шевелил пальцем в ее сторону, чтоб она шла в комнату, чтоб встала там перед кроватью под красным покрывалом. Она пошла впереди него, надо было идти медленно и как бы невзначай гладить себя по ягодицам. Он еще хотел, чтобы она часто дышала, а она чувствовала, как он смотрел на ее спину, впивался в нее глазами, как будто одним взглядом хотел сделать ей больно.
Она остановилась у постели.
Расстегнула сзади на платье три верхние пуговицы и стянула его сверху вниз, с бедер прямо на пол.
Бюстгальтер и трусики – черные кружева, о которых он говорил, что сам их ей купил, и она пообещала не надевать их для других. Только для него.
Он лег на нее, и у нее не стало тела.
Вот так она поступала. Так поступала всегда.
Она думала о доме, о том, что было когда-то, о том, по чему она так скучала, скучала каждый день, с тех пор как приехала сюда.
Раз, еще – и ее больше не было. Было только лицо ее, без тела. Не было у нее ни шеи, ни груди, ни промежности, ни ног.
Так что когда он впивался во что-то там, втискивался куда-то чем-то, когда у нее из задницы шла кровь, – все это происходило не с ней. Она была где-то в другом месте, а тут лежало только лицо, которое пело Лидия Граяускас на мотивчик, который она выучила сто лет назад.
Когда он подъехал к пустой парковке, пошел дождь.
Стояло такое лето, когда народ просыпался, медленно подкрадывался к окну в спальне и, затаив дыхание, надеялся, что уж сегодня-то, сегодня солнце засверкает по ту сторону жалюзи. Такое стояло лето, когда дождь творил что хотел и каждое утро слипающиеся глаза побежденных людей утыкались в дождь – серый, барабанящий по стеклу.
Эверт Гренс вздохнул. Он припарковал машину, выключил двигатель и потом еще долго сидел на водительском месте, пока в окно ничего не стало видно. Капли воды превратились в поток, который все-все затуманил. Гренс не решался пошевелиться. Не хотел. Апатия охватила в нем все, что еще оставалось ей охватить.
Вот и еще одна неделя прошла, и он почти забыл о ней.
Он тяжело вздохнул.
Он не должен забывать. Никогда.
Он по-прежнему жил с ней, каждый день и даже каждый час, двадцать пять лет, и ничего, черт возьми, с этим не поделаешь.
Дождь припустил еще сильней, впереди сквозь него виднелся дом. Большая вилла из красного кирпича, выстроенная в стиле семидесятых. Красивый сад, правда, еще немного – и слишком ухоженный. Больше всего ему нравились яблони. Шесть штук, с которых только что облетели белые цветы.
Он ненавидел этот дом.
Он разжал руки, вцепившиеся в руль, открыл дверь и выбрался наружу. Как он ни лавировал между большими лужами, что растеклись на неровном асфальте, ботинки все равно промокли еще на середине пути. Он подходил все ближе, стараясь отделаться от чувства, что жизнь также приближается к концу, делается чуть короче с каждым его шагом в сторону подъезда.
Пахло стариками. Он приезжает сюда каждое утро по понедельникам, но до сих пор не привык к этому запаху. Те, кто здесь находился – в креслах-каталках и ходунках, – не такие уж древние, так что откуда брался запах, было непонятно.
– Она там, у себя. В своей комнате.
– Спасибо.
– Она знает, что вы приехали.
Да понятия она не имеет о том, что он приехал.
Но он поклонился молодой санитарке, которая уже научилась его узнавать. Собственно, она просто хотела быть любезной и даже не подозревала, как ранила его этими словами.