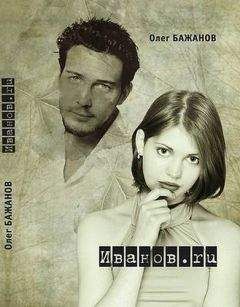— Всем на пол! — в следующую секунду крикнул он в грузовую кабину и успел заметить, как через растерявшегося борттеника к ручкам носового пулемёта потянулся Быстров.
Чеченский пулемётчик пытался достать в хвост «двадцатьчетвёрки», видимо зная, что эти вертолёты, при всей их мощи вооружения, с заднего сектора не защищены ни оружием, ни бронёй. Но пара вертолётов-штурмовиков, получив информацию об ожившей огневой точке, резко увеличила крен и с максимальным набором высоты уже уходила из-под обстрела крутым боевым разворотом. Пилоты-штурмовики пока не могли видеть пулемётную точку, и Иванов прикинул в уме, что им потребуется ещё не меньше минуты, чтобы выйти на боевой курс для повторной атаки. А вот положение «восьмёрок» становилось критическим: в этот момент расстояние от фермы до вертолёта Иванова составляло чуть больше километра, до ведомого вертолёта — около двух, и оно уменьшалось с каждой секундой. С такой дистанции ДШК легко доставал обе цели.
В мгновение в голове Иванова промелькнули несколько вариантов возможного противозенитного маневра, но в данной ситуации мог подойти только один, хотя и крайне опасный — боевой разворот с энергичным набором высоты. Иванов уже начал прибавлять мощность двигателям, и вдруг он понял, что сделает в следующую секунду. Вместо крутого боевого разворота, он направил нос вертолёта прямо на ферму.
— Атакую! — коротко бросил в эфир Иванов.
Сразу же после принятия единственно верного решения какое-то наркотическое состояние спокойствия и тупого упорства завладело Ивановым. В эту минуту для него перестало существовать всё, кроме ярких вспышек на крыше строения. «Убить!» — стучало в мозгу. «Убить!» — подчинённый только этому приказу, оставив страх и страстное желание жить за какой-то уже пройденной чертой, Иванов выводил, казалось, очень медленно набирающую высоту машину для атаки.
— Обороты! — истошно закричал «правак».
Но Иванов видел только прицел. Он не боялся, что тяжёло загруженная машина на пределе возможности, сорвавшись от напряжения, свалится, упадёт, потеряв обороты перетяжелённого несущего винта, так как в этот миг он и она слились в один организм, жизнь которого зависела теперь от них обоих. За долгие годы полётов на вертолётах Иванов научился всем телом чувствовать жизненные ритмы винтокрылого друга, и был уверен, что вертолёт не подведёт его в решающий момент.
Оба двигателя натужно выли на самой высокой ноте, выдавая мощность, необходимую для маневра.
— Высота 250 метров, — отрывисто сообщил правый лётчик.
«Теперь пора!» — подумал Иванов и плавным движением ручки управления вогнал ферму в сетку прицела. Понимая, что промахнуться никак нельзя, — пулемётчик уже перенёс огонь на атакующий транспортный вертолёт, — Иванов действовал, как на тренажёре. «Не спеши», — повинуясь внутреннему голосу, Иванов аккуратно подводил перекрестье сетки прицела на крышу фермы, откуда в глаза продолжала бить нестерпимо яркими вспышками молнии огневая точка противника.
— Держите, суки! — произнёс Иванов, нажимая кнопку пуска ракет, и почувствовал характерный рывок. Из каждого из четырёх подвесных универсальных блоков с обоих бортов вертолёта, оставляя дымные хвосты, вспыхнувшими стрелами вырвались по восемь ракет и двумя стайками, сливаясь впереди в одну большую стаю, пошли к цели. Ракеты первого пуска ещё не достигли земли, как за ними последовали тридцать две ракеты второго залпа. Успев заметить, как первые разрывы стали плотно ложиться перед строением, на крыше которого работал пулемёт, и как, захватывая всё большую площадь, фонтаны взрывов накрывают всю ферму, Иванов глубоким левым креном увёл вертолёт с боевого курса…
… Начало лета. Они с Наташей идут по вечернему парку. Девушка заходит вперёд, останавливается и смотрит ему в глаза:
— Знаешь, что я ответила вашему замполиту? — Наташа обнимает Иванова за талию обеими руками. Он чувствует живое тепло её рук. Она прижимается к нему всем телом и, глядя снизу вверх околдовывающим взглядом серо-голубых глаз, задаёт вопрос:
— А что бы ты ответил на моём месте?
— Не знаю, — говорит Иванов.
— А ты подумай.
— Не знаю, — пожимает он плечами.
— Я ему сказала: «Что в вас есть такого, чего нет у Саши?»
Она уже не смеётся, а доверчиво, как ребёнок, припадает к его плечу. Иванов чувствует себя самым счастливым человеком на свете…
…— Саня! — раздаётся предостерегающий крик Андрея Ващенки. Иванов резко разворачивается и принимает боевую стойку, ожидая удара, но видит другое: офицер в окровавленном камуфляже стоит на ногах и держит в запачканной кровью руке направленный на Иванова пистолет. Оцепенение проходит быстро. Страха Иванов не испытывает, он напрягается, готовый действовать по первому приказу внутреннего голоса. Откуда-то изнутри снова накатывается ярость. В голове стучит одна мысль: «Убить! Не ты его, он — тебя!» Противник резко передёргивает затвор, загоняя в ствол патрон. Иванову необходимо срочно что-то предпринять. Но что? Если этот бугай решил стрелять, то достать из кармана свой пистолет Иванову не успеть, а противник стоит слишком близко, чтобы пытаться бежать, и слишком далеко, чтобы успеть напасть до того, как он выстрелит, даже если использовать подкат. Остаётся только одна надежда — на Андрея Ващенку. Тот стоит неподалёку.
— Что, ссышь, летун? — тяжело говорит уверенный в своей победе окровавленный противник.
— Убери «игрушку», — как можно спокойнее, произносит Иванов. — Здесь детей нет, чтобы пугать!
Но голос всё же выдаёт волнение.
В этот момент, потирая затылок, приходит в себя лежащий на земле офицер.
— Валерка! Ты что, ох. л?! — кричит он и, поднявшись с земли, делает попытку подойти к своему окровавленному товарищу.
— Б..дь, всем стоять! Никому не шевелиться! — в припадке истерики тот быстро переводит пистолет на Ващенку, потом снова на Иванова. — Я с этим падлом сам буду разбираться!
Глядя на испачканный кровью толстый короткий палец на спусковом крючке, Иванов ожидает выстрела. Ващенка стоит справа, метрах в четырёх от противника. Краем глаза Иванов видит, как Андрей, оставаясь вне поля зрения психа, медленно вытаскивает из кармана куртки пистолет, затем резко вскидывает руку, досылая в ствол патрон, и падает на одно колено:
— Брось пистолет, гад, яйца отстрелю! — Для большей убедительности Ващенка стреляет в воздух. В вечерней тишине одинокий пистолетный выстрел звучит, как гром…
…Боль в голову, а затем и во всё тело возвращается по частям, вместе с коротким и отрывочным восприятием происходящего. Сознание медленно приходит откуда-то из глубины тёмной вязкой бездны прошлого, перемешивая его с настоящим. Постепенно стал заново выстраиваться мир звуков и ощущений. Иванов, почувствовав тело, понял, что нужно открывать глаза. Зачем? Сколько он здесь пролежал? Видимо, достаточно долго, чтобы успеть вспомнить свою жизнь. Его больше не били, и в тяжёлой гудящей медленно соображающей голове появилась первая мысль о спасении. Иванов разомкнул веки и, осторожно повернув голову, осмотрелся. Место показалось незнакомым: в отражённом от снега рассеянном свете одинокого прожектора в полумраке совсем близко виднелся забор из бетонных плит и слева от него — освещённая прожектором часть какой-то незавершённой стройки. На фоне светло-серого забора чётко вырисовывались три тёмных силуэта и время от времени там вспыхивали красные огоньки сигарет. После короткого раската смеха до Иванова долетел приглушённый обрывок фразы: «Сейчас кончим этого недоноска и — в сауну, грехи смывать!». Иванов понял, что говорят о нём. Эти трое уже списали его со счетов ещё живого.
Иванов пожалел о пистолете, оставленном дома в шкафу на полке с бельём. Сейчас бы он очень пригодился. От мысли — «Бежать!» Иванов отказался сразу. Если судить по тому, как дерутся эти тренированные парни, то далеко ему не уйти. А нужно выжить. И не просто выжить, а рассчитаться с теми, кто напал на него, кто так грубо и жестоко вторгся в его жизнь.
Имея возможность наблюдать за врагами, Иванов стал прикидывать свои шансы на успех. Сейчас в нём работал природный инстинкт, тот, что живёт глубоко в подсознании каждого человека — инстинкт самосохранения. и этот инстинкт говорил Иванову, что, несмотря ни на что, нужно вставать и действовать. Тёплое финское пальто, благодаря которому Иванов, наверное, был всё ещё жив, уже не грело — холод от промёрзшей земли проник сквозь лебяжий пух настолько, что спина совсем онемела и не чувствовала даже боли. Надо было подниматься.
Враги, казалось, никуда не спешили, продолжая курить, делая надписи на бетонном заборе и спокойно беседуя. Иванов даже смог разобрать часть слов и понял, что уже не о нём. «“Хайль, Гитлер!” ещё напиши», — донеслось до Иванова сквозь дружное мужское ржание. «Сволочи!» — ещё раз прикидывая свои малые шансы, мысленно выругался Иванов. И вдруг он почувствовал, как преодолевая обиду и безысходность, в его груди закипает злоба. «Гады!» — Иванов сел на земле и с ненавистью посмотрел на веселящихся верзил. «Всего трое!» — теперь Иванову стало безразлично, какой перед ним противник. Иванов почувствовал, что теряет контроль над собой. «Убить!» — пришла одна холодная мысль. «Убить! Убить! Убить!» — эта мысль всё больше и больше захватывала Иванова, отключая сознание от всего постороннего. «Убить!» — уже знакомо пульсировало в висках, точно так же, когда он вёл боевой вертолёт на чеченский пулемёт, изрыгающий навстречу смертоносное пламя и металл. «Убить!» — когда Иванов смотрел прямо в ствол направленного в лицо пистолета. «Убить!» — и теперь уже больше ничего не связывало его с настоящим и будущим. И это был уже не Иванов, а тот другой, кого Иванов боялся всегда, потому что это был не человек: ломая все запреты и заглушая боль, из тёмной бездны подсознания на свободу выходил зверь — жестокий и безжалостный. И теперь этот зверь с неумолимой беспощадностью подчинял себе тело и душу, придавая мыслям ясность, а мышцам силу.