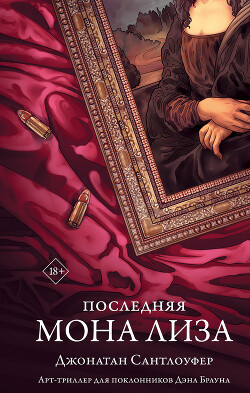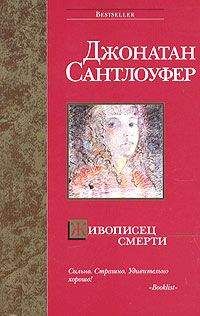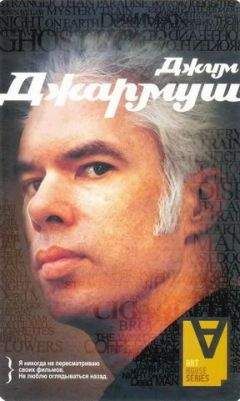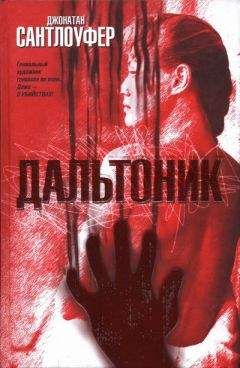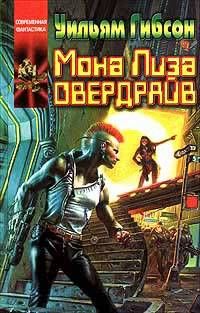Мужчина разжал руки, и Бьянки неловко приземлился, опрокинув высокую стопку книг.
– А где бы мне найти этого Гульермо?
– Он… он… э-э… – Бьянки запнулся, переводя дыхание, – профессор… в университете… во Флоренции, но… но, по-моему, сейчас он на пенсии.
Он украдкой бросил взгляд в окно – нет ли там случайно кого-нибудь, кого он мог бы позвать на помощь – однако посетитель тут же загородил его собой.
– Адрес!
– М-мне кажется, его можно узнать в университете…
Незнакомец посмотрел ему в глаза таким тяжелым взглядом, что Бьянки тут же принялся листать свою картотеку. Найдя нужную карточку, он хотел зачитать адрес, но мужчина выхватил картонку из его пальцев.
– Вы ведь сами не читали этот дневник, верно?
– Я? Нет-нет! – потряс головой Бьянки.
– Но знаете, что он был написан по-итальянски…
– Мне, должно быть, Пеллетье сказал… а может, я взглянул на одну страничку, не больше.
– Ясно, – губы незнакомца растянулись, обнажив прокуренные зубы, карточка исчезла у него в кармане. – И вы никому не скажете, что я приходил, ни этому Гульермо, никому другому…
– Нет, синьор, нет. Даже Пеллетье. Я ни словечка никому не скажу.
– Конечно нет, – произнес незнакомец.
Бьянки еще пытался восстановить дыхание и равновесие, когда посетитель вдруг ударил его кулаком в грудь. Взмахнув руками, торговец опрокинулся на другую стопку книг.
Мужчина поднял его, ухватил руками за горло, сдавил и начал душить. Бьянки хотел взмолиться о пощаде, но смог издать лишь несколько сдавленных писков; комната поплыла перед его взором.
– Нет, ни словечка не скажешь, – произнес мужчина, почувствовав, что гортань букиниста хрустнула под его пальцами.
2
Два месяца спустя
Из-за письма, пришедшего на электронную почту менее двух недель назад, я утратил способность думать о чем-либо другом и бросил все дела ради призрачной возможности. Можно сказать, причуды. И вот я здесь. Пытаясь справиться с волнением, я остановился и размял затекшие мышцы, затем покатил чемодан по длинным переходам, ощущая смесь утомления и возбуждения после восьмичасового перелета из Нью-Йорка, где тоже, в общем, было не до сна.
Аэропорт Леонардо да Винчи напоминал большинство себе подобных безликой многолюдностью и ярким, режущим светом. Тот факт, что он был назван в честь Леонардо, показался мне пророческим, хотя назвали его так, конечно, не для меня. Я взглянул на часы: шесть утра. Затем я поискал поезд в город, нашел его и, гордясь этим достижением, рухнул на свое место и закрыл глаза. В голове комариной стайкой вился сразу десяток мыслей.
Тридцать две минуты спустя я оказался на Рома Термини, огромном многолюдном вокзале, в котором пульсировал гудящий рой пассажиров. Поезда, парившие прямо за билетными киосками, изрыгая в зимний воздух белые дымки, придавали ему некоторые элементы романтики.
Итак, я врезался в людскую толпу – «Scusami, scusami» [2] – с благодарностью вспоминая родителей, которые с малых лет обучали меня родному языку, и пошел от одного поезда к другому, сжимая в руке билет, ища глазами на большом табло Флоренцию и чувствуя, как уходит минута за минутой. В итоге я чуть не опоздал на свой поезд, потому что в расписании был указан лишь его конечный пункт назначения, Венеция. Как бы мне хотелось побывать в Венеции. Ну, как-нибудь в другой раз; а сейчас я приехал по делу.
Поезд до Флоренции оказался новым, чистым, с удобными сиденьями. Я поставил свой чемодан на багажную полку, снял рюкзак, уселся и тут же пару раз клюнул носом – при этом перед глазами возникали какие-то летящие по воздуху страницы, которые я пытался и никак не мог поймать.
Чтобы прогнать сон, я выпил кока-колы и стал смотреть в окно. Равнинные пейзажи постепенно сменились холмами, за которыми возвышались далекие горы со средневековыми городками на макушке. Вся обстановка казалась мне немного нереальной, словно я смотрел кино, а не ехал к открытию, которое, как я надеялся, должно было дать ответ на загадку столетней давности и увенчать мои двадцатилетние исследования судьбы самого известного преступника в нашем роду.
Через полтора часа я вышел из шумного вокзала Санта-Мария-Новелла в центре Флоренции и поволок свой чемодан по ее мощеным улочкам. Неяркое солнце то пряталось, то выглядывало из-за низких облаков, воздух был свежим и холодным. Я воспроизвел в памяти события последних двух недель: получение электронного письма; покупка билета с открытой датой; поездка в итальянское консульство, где я, используя все свое обаяние, уговорил тамошнюю молодую сотрудницу выдать мне культурное «пермессо» [3], а также письмо, удостоверяющее, что я являюсь профессором искусств в университете, и предоставляющее доступ в итальянские культурные учреждения; затем звонок двоюродному брату в Санта-Фе. Он скульптор, всегда готовый ставить арт-сцены в Нью-Йорке, и он был страшно рад возможности снять мой лофт в Бауэри. Неделей позже я завернул картины в пузырчатую пленку, передал занятия в колледже своему дипломнику и взял отпуск за неделю до конца сессии – рискованный шаг для преподавателя, надеющегося получить профессорскую должность.
Перейдя широкую улицу перед вокзалом, я нырнул в лабиринт узеньких улочек, пытаясь следовать указаниям GPS своего сотового, который то и дело менял маршрут. Дважды мне пришлось поворачивать обратно, но все же минут через десять я добрался до Пьяцца-ди-Мадонна – большой прямоугольной площади, над которой возвышалась крашеная охрой часовня с куполом из красного кирпича – и разглядел там старинную электрическую вывеску с названием нужной мне гостиницы: «Палаццо Сплендор».
Вестибюль гостиницы был размером с небольшую манхэттенскую кухню. Давно не крашенные стены, полы из сильно потрескавшегося бело-пестрого мрамора, единственное украшение – выцветшая черно-белая фотография статуи Давида Микеланджело.
– Люк Перроне, – сказал я сидевшему за столом молодому парню: покрытые расплывшимися татуировками жилистые руки, дымящаяся сигарета, все внимание на зажатый между ухом и плечом мобильник – этакая наркоманская эстетика.
– Пассапорто, – ответствовал тот, не поднимая глаз. Когда я спросил на своем лучшем итальянском, могу ли я оставить свой чемодан и вернуться попозже, он поднял вверх палец, как будто я мешал его беседе. Явно личной, если только он не называл всех жильцов гостиницы «иль мио аморе». Не дожидаясь ответа, я поставил чемодан и направился к выходу.
Гугл-карты сообщили, что монастырь Сан-Лоренцо располагается в пяти минутах ходьбы от меня, и я думал, что легко туда доберусь. Но сначала я пошел не в ту сторону, потом понял, что держу карту вверх ногами. Я вернулся, еще раз обогнул купол часовни на Пьяцца-ди-Мадонна и пошел по указанному маршруту мимо громоздившихся друг на друга красно-коричневых строений, затем вдоль длинной, до конца квартала, неровной каменной стены с нишами в виде арок со ступеньками. Площадь Сан-Лоренцо была пустой и почти безлюдной, если не считать нескольких туристов и пары монахов в длинных коричневых хламидах.
Я осмотрелся, начиная понимать, что все окружающее и увиденное ранее – часть огромного единого комплекса.
Базилика песочного цвета прямо передо мной казалась грубо сработанной и незавершенной, три ее арочных входа с тяжелыми деревянными дверями были закрыты. Слева от церкви находилась арка поменьше, за ней – темный переулок, который привел меня в знаменитую обитель Сан-Лоренцо – место, которое я раньше видел лишь на фотографиях.
Сделав несколько шагов, я словно очутился в дивном сне: квадратный садик с шестиугольными изгородями и двухэтажной лоджией, классический и гармоничный – все это спроектировал мой любимый архитектор эпохи Возрождения Брунеллески. На мгновение я попытался представить себя живописцем времен Высокого Возрождения, а не каким-то нью-йоркским художником, который бьется за кусок хлеба и преподает историю искусства, чтобы оплачивать счета.