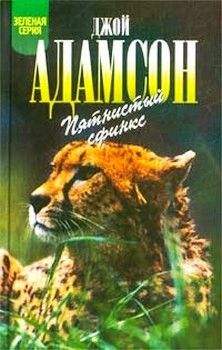Тут снова нарисовалась матрона, таща на буксире юную блондинку, и чуть ли не ткнула мне ее в лицо. Я был бы только за. Ростом блондинка была примерно шесть футов, с длинными волосами солнечного цвета и с такой кучей веснушек, что вы бы их считали много дней. Судя по тому, как ее тело вписалось в форменное черное платье, скорее всего, это были бы самые незабываемые дни вашей жизни.
– Прости, дружок, – заговорила блондинка с мощным австралийским выговором. – Здеся клуб этот для членов только, тутошний клуб! Ублюдки, а? Леди хотят, чтоб я базарила, потому как она английский не сечет, да? Типа, лучше ты гуляй отсюда, если не хоть, чтоб она развопилась и громилу кликнула. Невезуха, дружок. Не кисни. Салют! Бывай!
Мда – заурядная Элиза Дулиттл. Улыбнувшись австралийской цыпочке, я замахал рукой матроне, та стояла в нескольких футах поодаль, озабоченно глядя на нас.
– Сумимасэн, – позвал я. – Тётто маттэ, ку-дасай![39]
Матрона склонила голову, удивившись, что я не только говорю по-японски, но и гавкаю на нем. Осторожненько она подобралась ближе, теперь вся сплошь улыбка, спокойно опустив руки. И все равно в глаза бросалось, что ей непривычно иметь дело с иностранцами, а может, просто с немиллионерами.
– Простите, что беспокою вас, – продолжил я по-японски.
– Да? – сказала матрона.
– Вот эта женщина, – кивнул я и сторону цыпочки, которая тут же включила широченную улыбку. На зубах у нее веснушек не было.
– Да? – повторила матрона.
– Ни слова не пойму из того, что она говорит. Она со мной по-английски разговаривает. По крайней мере, мне так кажется. Видите ли, я француз. Из Франции.
– Из Франции? – спросила матрона.
– Ну, Франция в виде Польши, по крайней мере с маминой стороны. Она вообще-то русская, из деревушки в Стамбуле, бывшем Константинополе. Но по-английски я не умею. Я говорю по-французски. Francais. По чести сказать, мне немного обидно, что со мной так обращаются.
– По-французски? – спросила матрона.
– Я здесь на рандеву с господином Накодо. Чуть опоздал и, наверное, разминулся с ним внизу, где мы должны были встретиться. А сейчас из-за вас и этой мямли je пе sequoi[40] я опаздываю.
– Господин Накодо? – озадачилась матрона.
– llai, sivolsplais.[41] Передайте ему, что это Билли Чака.
Тут матрона улыбнулась и как из пулемета застрочила на очень беглом, без акцента, прямиком-из-Сорбонны французском. Понятия не имею, о чем она лопотала, да и наплевать. Убедившись, что теперь я точно знаю свой шесток, матрона поклонилась и зашагала в темные дебри клуба «Черный туман». Парочка из пяти-шести красавиц японок мелодично хихикнули и кучкой последовали за хозяйкой.
Блондинка задержалась еще на секунду, чтобы помучить меня улыбкой, а потом красиво и медленно уплыла прочь, затягивая агонию. И вот так шесть или семь самых прекрасных цыпочек, каких я в жизни встречал, свалили из этой самой жизни прежде, чем я сумел отмочить первую шуточку.
Когда все девушки исчезли, я почуял взгляды. Тихо в клубе не стало, но атмосфера слегка изменилась, как будто облако на мгновение набежало на солнце.
И тут вдруг передо мной объявился Накодо. Он нарисовался без предупреждения, я даже не видел, как он шаркает ко мне. По-моему, Накодо удивился не меньше меня. Рот у него открылся и закрылся, а брови сошлись в центре широкого лба.
И в секунду эту мину как тряпкой смахнули.
Я вдруг обнаружил, что смотрю совсем не на того человека, которого встретил всего пару дней назад. Накодо-озабоченный-папаша испарился, я стоял перед абсолютно другим человеком. От такой перемены хоть стой, хоть падай. Не успел я просечь, что же в нем стало настолько другим, а Накодо уже зашагал прочь, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. Ссутуленные плечи и шарканье уступили место бронебойному шагу, почти военному. Я поплелся за ним к отдельному столику в углу, шкурой чуя, как на нас пялятся сквозь темноту.
В просторных кабинках, расставленных точно шахматы в ожидании эндшпиля, сидели группы по шесть-семь человек. Дамочки в основном стреляли глазками и улыбались, а мужики вели тихие разговоры, разграфленные медленными, смутно зловещими жестами. В углу, на маленькой сцене, плямкал на фортепьяно доходяга в смокинге. Мелодию я не знал, как не знал бы любой младше шестидесяти.
Господин Накодо словно кол проглотил, позвоночником прилип к стене, глаза таращатся в зал, руки на столе ладонями вниз. Мы оба ждали, кто первый начнет. Я уже было раскрыл рот, но тут к столику подошла официантка и поставила бокал перед Накодо. Тот градуса на четыре склонил голову в мою сторону, пальцем постучав по бокалу, и официантка помчалась из зала как спринтер. Несколько секунд я мялся, не зная, как начать. Накодо на помощь не пришел.
– Вчера вечером я видел новости, – сказал я.
В ответ Накодо хлопнул глазами. Не успел я продолжить, как вернулась официантка и поставила передо мной бокал. Я было хотел сказать ей спасибо, но она уже слиняла, так что я просто поднес напиток к губам. Скотч и вода, в основном второе.
– О-куями-о мосиагзмасу,[42] – начал я. Все заезженные официальные фразы, что я знал, звучали слишком холодно, слишком банально, и я сменил тактику. – Слушайте, не стану притворяться, что понимаю, каково вам сейчас. Ни вот настолечко не понимаю. Я знаю, что это наверняка трудно, и знаю, что слово «трудно» даже отчасти не подходит. Мне жаль.
Накодо пялился на меня, как на стенку, или на телик, или в глубины космоса. От этого взгляда я занервничал, и все слова опять куда-то разбежались. Не спуская с меня глаз, Накодо отхлебнул из бокала, потом заговорил:
– Простите, но я не понимаю, – сказал он.
В потемках я разглядывал сто физиономию, соображая, что же дальше. Такие разговоры сложно вести на любом языке. На японском, с его жутким формализмом, иерархией, тонким подтекстом, эвфемизмами и мутными намеками, такой разговор кишмя кишел лингвистическими минами. Я уперся взглядом в стол.
– Я знаю, что ваши личные дела меня не касаются. Но с того момента в зале автоматов патинко, где с Миюки приключились судороги, сдается мне, что я в это вовлечен. В конце концов, когда она исчезла, вы пришли ко мне, искали помощи, просили…
– С Миюки все хорошо.
– Простите?
– С Миюки все хорошо, – повторил Накодо. – Она вернулась домой. Вы были правы. Оказалось, я слишком рано забеспокоился, потому что в итоге она заявилась через какой-то час после нашего с вами разговора. Думаю, она сбежала потому, что злилась на меня, хотела преподать мне урок. Как-нибудь отомстить за мой так называемый шпионаж. В общем, уже все кончено, какие бы у нее ни были мотивы. Она вернулась домой.
– А, – сказал я.
– Кажется, вы разочарованы.
– Вовсе нет.
– По что-то беспокоит вас, господин Чака?
– Просто я слегка запутался.
Пианист добрался до конца песни. Редкие аплодисменты. Потрескивание табака, звон льда в бокалах. Затем пианист заиграл другую мелодию. Эту я распознал как «Мэкки-Нож».[43] Накодо позволил себе тончайшую из улыбок.
– Понимаю, отчего вы могли запутаться, – сказал он. – Я не имел права вовлекать вас в свои проблемы. Неправильный подход, я думаю. Мне свойственно верить, что у каждой проблемы есть решение. И я признаю, что люблю контролировать события. Но если дело касается дочек… ну, это не всегда возможно. Полагаю, у них свойство противиться контролю. Создавать проблемы, у которых нет четкого решения. В любом случае, пожалуйста, простите за беспокойство.
Башка так оглушительно гудела, что я едва мог переварить его слова. С Миюки все хорошо. Она вернулась домой. Типа, я поверю, что девчонка по телику – не Миюки и девчонка на записной книжке Афуро – не Миюки, что Миюки не утонула и не умерла. Я хлебнул еще скотча с водой, столько, что аж глотку обожгло.
– А что вы сказали? – спросил Накодо. – Что-то про новости?
– Самоубийство, – ответил я. – Утонула девушка, я решил, что это ваша дочь. Увидел репортаж по телевизору. Девчонка выглядела в точности как она. В точности. У нее даже была такая же, ну, короче, точь-в-точь как Миюки.
Накодо допил остатки из бокала.
– Не слыхал об этой утопленнице, о которой вы говорите, но уверяю вас, что Миюки цела и невредима, – сказал он. – Не в восторге снова быть дома, но уж точно не готова прыгнуть в Нихомбаси. Утонуть, какая ужасная смерть.
– Ужасная… – эхом отозвался я. Я не заикался про Нихомбаси.
– Когда молодежь так бездумно обрывает жизнь, у меня сердце разбивается. И все равно не могу не думать, уж не современное ли существование со всеми удобствами ведет к такой пустоте, – продолжал Накодо. – К потере цели.
– К потере цели…
– Нынешняя молодежь такая апатичная, вечно такая депрессивная. На них не угодишь. Вы для молодежи пишете, может, вы мне скажете – откуда это отчуждение?