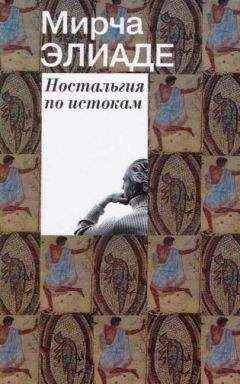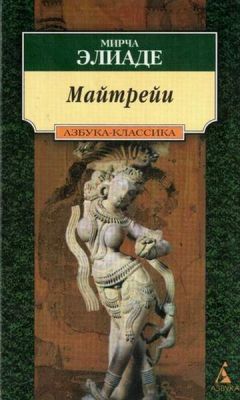- Сейчас мы обручимся, Аллан,- сказала она, глядя прямо перед собой, на воду.
Это торжественное начало резануло мой слух. Я был слишком трезв для такого момента. (Но я любил ее, видит Бог, я любил ее!) Я ожидал, что воспоследует сцена из романа или из какой-нибудь средневековой индийской баллады о легендарной и безумной любви. Я побаивался этой литературы - пусть я был не слишком начитан, но я имел случай наблюдать, на примере Майтрейи, как она усваивается в отрочестве и юности. Обет, зарок, ритуал - я стеснялся пафоса, как всякий цивилизованный человек. (И это я, намеревавшийся отряхнуть с ног прах цивилизации, вырвать ее из себя с корнем!)
Но Майтрейи говорила так просто, так сильно, что я дрогнул и стал поддаваться. Она обращалась к воде, к небу и звездам, к лесу, к земле. Встав на колени и касаясь земли рукой с зажатым в ней кольцом, она давала обет:
Клянусь тобой, земля, что я буду Алланова, и ничья иная. Я буду расти из него, как трава из тебя. И как ты ждешь дождя, так я буду ждать его прихода, и что для тебя лучи солнца, то будет тело его для меня. Клянусь перед лицом твоим, что союз наш будет родить, ибо я отдаю себя по своей воле, и все зло, если ему суждено быть, пусть падет на меня, а не на него, ибо я его избрала. Ты слышишь меня, матерь-земля, ты не обманешь, матушка моя. Вот рука моя, вот кольцо, если ты чувствуешь меня сейчас так, как я тебя, укрепи меня, чтобы я любила его вечно, чтобы я принесла ему счастье, какого он не знал, чтобы я дала ему жизнь, полную до краев. Да будет жизнь наша подобна радости трав, что растут из тебя.
Да будет объятие наше подобно первому дню муссона. Дождем пусть будет поцелуй наш. И как ты никогда не знаешь устали, матушка, пусть не знает устали сердце мое в любви к Аллану, которого небо родило далеко, а ты, матушка, привела ко мне…
Ее слова обволакивали, зачаровывали, потом они слились в какой-то младенческий лепет, односложный, непонятный без ключа. В речитативе я различал то одно, то другое бенгальское слово, но общий смысл от меня ускользал. Когда она смолкла, дотронуться до нее я не посмел, так ограждало ее волшебство звуков. Я сидел рядом, одну ладонь положив на колено, другой опершись о землю, как будто повторяя за ней магический ритуал обета. Она заговорила первая:
- Теперь нас никто не разлучит, Аллан. Теперь я твоя, совсем твоя…
Я мучительно искал слова, но не нашел ни одного свежего, которое бы не оскорбило моего торжественного чувства и ее преображения: у девушки на вечерней прогулке не бывает такой неподвижной сосредоточенности черт, и я долго потом вспоминал ее лицо в ту минуту.
- Однажды ты возьмешь меня в жены и покажешь мне мир, правда?
Это она произнесла по-английски, и ей показалось, что фраза прозвучала вульгарно.
- Я пока очень плохо говорю по-английски, да, Аллан? Ты Бог знает что можешь обо мне подумать… Но я хочу посмотреть на мир вместе с тобой, увидеть его так, как видишь ты. Он большой и прекрасный, правда? Отчего люди вокруг хлопочут, бьются? Я хочу, чтобы все были счастливы. Ах, нет, я говорю глупости. Как мне хорошо сейчас, как хорошо…
Она рассмеялась. Я снова оказался в обществе прежней Майтрейи, какой она была зимой,- невинного, импульсивного существа с речью прерывистой и противоречивой. Канул куда-то весь ее женский опыт, вся благоприобретенная взрослость.
Действительно, в последующие дни я убедился, что помолвка вернула ей душевный покой, радость жизни и вкус к игре. С той минуты, как обряд освятил наш союз, напряжение ее отпустило, страхи рассеялись, перестала терзать мысль о грехе. Я обрел заново ту непостижимую Майтрейи, перед которой вначале терялся, которой восхищался и которую незаметно принял в сердце - между делом, среди игр, думая, что это я расставляю ей ловушки, лишенные, впрочем, всякого остроумия.
Надо было скорее возвращаться в машину, уже по-настоящему стемнело. Я так и не посмел обнять Майтрейи. Наша спутница дремала на заднем сиденье, она встрепенулась нам навстречу и с видом заговорщика смотрела, как мы идем: я - выше и крепче, чем Майтрейи, зато она - моложе: ослепительно прекрасная, с выражением участливого внимания ко всему, с радостью вновь обретенной свободы в игре лица. (Позже Майтрейи сказала мне, что сестра Кхокхи первая узнала о нашей любви и покрывала нас, как могла; она, хлебнувшая столько горя в своем неудачном браке - ее выдали замуж двенадцати лет за человека, которого она первый раз увидела в день свадьбы и которого страшно боялась, потому что он ее насиловал и избивал каждую ночь до и после «любви»,- так вот, она всегда советовала Майтрейи не смущаться кастовыми законами и семейными строгостями, а начать действовать и в случае чего даже решиться на побег. Эту женщину, оказавшуюся моим другом и другом Майтрейи, единственную, кто утешал ее в черные дни, я видел очень редко, если и говорил с ней, то случайно и даже не знал ее имени. А ведь во всем доме Сенов она одна понимала нас и любила вполне бескорыстно.)
В тот вечер странности в поведении Чабу усугубились, и ее уложили спать в комнате госпожи Сен. Симптомы были непонятные: ей все время хотелось высунуться в окно, как будто ее кто-то звал с улицы или она там что-то видела.
Я лег спать, переполненный происшествиями этого дня, и уже погрузился в приятные сны с катанием на воде, с лебедями и мерцанием светляков, как вдруг меня разбудил осторожный стук в дверь. Я в удивлении спросил, кто там. Ответа не последовало. Испытав, признаюсь, некоторый страх, я зажег свет. Вентилятор создавал легкий шумовой фон, заметный, только когда его выключишь. Я отпер дверь и оцепенел при виде Майтрейи в тонком зеленоватом сари, дрожащей и босой (чтобы не шуметь на лестнице?). Я стоял в полной растерянности.
- Погаси свет,- шепнула она, проходя мимо меня в комнату и прячась за спинку кресла, чтобы ее ненароком не увидели с улицы.
Я погасил и подошел к ней, глупейшим образом спрашивая:
- Что с тобой? Ты ко мне? Что случилось, Майтрейи?
Вместо ответа она несколькими движениями расправилась со своим сари, зажмурясь, закусив губу, не дыша, обнажив плечи и грудь. Вид ее наготы при бледном свете уличных огней подействовал на меня ошеломляюще, как чудо, в своем плотском и точном воплощении превосходящее пределы любой фантазии. Если я и представлял себе - а я представлял не раз - нашу первую ночь и ложе, где я познаю ее, то никогда моя мысль не простиралась так далеко, чтобы вообразить чистейшее тело Майтрейи, которое само, по своей воле, обнажает себя передо мной. Это было за чертой воображения, хотя я и обставлял иногда экзотическими обстоятельствами головокружительное видение нашей близости. В ее поступке меня убила именно его простота и естественность: девушка сама приходит в комнату жениха, потому что после помолвки между ними уже ничего не стоит.
Тихо-тихо я обнял ее, стараясь не привлекать слишком близко, как бы робея от ее наготы, но, ощутив все еще окутанные сари бедра, одним гладящим движением вдоль выгнутой спины высвободил их, сам содрогнувшись от такого кощунства и опускаясь на колени перед этим телом, которое для меня перешагнуло пределы мыслимого совершенства и стало причастным к сверхреальности. Она положила руки мне на плечи, словно умоляя подняться. Говорить она не могла, ее бил озноб, и тот вал радости, который принес ее в мою комнату, все же не мог развеять страхи этой минуты. Она двинулась к моей постели мягкими, медленными шагами, и тело ее зазвучало в ином ритме, пока она шла. Я хотел отнести ее на руках, но она воспротивилась и, поцеловав мою подушку, легла сама. Только один миг я видел на белой простыне живую бронзу ее тела, трепещущего, зовущего меня. Миг спустя я закрыл окна деревянными ставнями, и в комнате стало совсем темно. Я почувствовал ее рядом, сжавшуюся, будто она хотела спрятаться, затаиться, и это была не только робость и жажда тела, но жажда меня всего: она хотела перейти в меня вся, как перешла в меня ее душа. Больше я ничего не помню, я потерял себя и познал ее в беспамятстве. На исходе ночи она поднялась, не глядя на меня, завернулась в сари и, только когда я открыл дверь, провожая ее (со сколькими предосторожностями!), обронила:
- Это небо так велело. Видишь, сегодня, в день перстня, Чабу не спала вместе со мной.
Я стоял, стараясь различить ее шаги, поднимающиеся по ступенькам, но не услышал ни звука, так легко она скользила вдоль стен.
* * *
Утром не кто иной, как Майтрейи, пришла звать меня к чаю. Она принесла к тому же цветы из сада и расставила их по вазам с улыбкой, которая стоила дороже объятия. Она была убийственно бледна, с распущенными волосами («это ты их спутал так, что я не смогла причесаться») и с припухшими от поцелуев губами. Я испытал блаженство при виде этих следов нашей первой ночи. Красота Майтрейи расцвела, как будто ее тело разом проснулось, и искусанные губы рдели триумфально и вызывающе. Я удивлялся, как могла пройти незамеченной такая перемена, почему домашние так легко приняли ее объяснения (дескать, она не спала, волнуясь за Чабу, и кусала губы, чтобы не плакать, а кроме того, болезнь отца утомила ее сверх меры и т. д.).