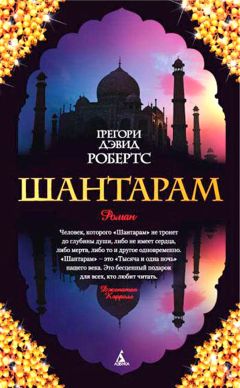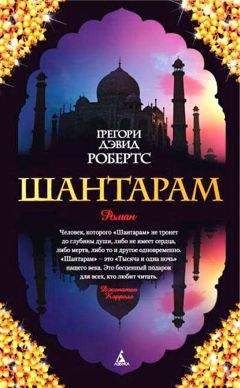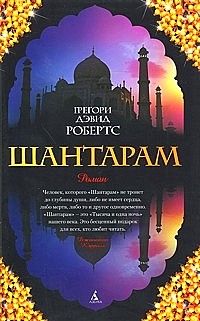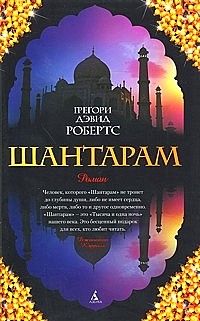Но в конце концов он допустил промах. Он свернул в проулок, где жили бездомные и изгнанные из квартир многодетные семейства. Я знал это место. Около сотни мужчин, женщин и детей устроили себе жилище в этом закутке между двумя зданиями. Над головой они соорудили нечто вроде чердака, где по очереди спали, а все остальное время проводили внизу, в темном узком коридоре. Модена пробирался между группами стоящих и сидящих людей, кухонными плитками, душевыми кабинками и разостлаными одеялами, на которых играли в карты. Затем, в конце этого коридора-проулка, он по ошибке выбрал тупик, окруженный высокими глухими стенами. В конце его, за углом одного из зданий, был еще один боковой тупичок, наглухо перекрытый сверху. Здесь была кромешная тьма, и мы пользовались иногда этим тупиком для совершения сделок с наркоторговцами, которым не доверяли, поскольку выход отсюда был только один. Я завернул за угол, отставая от него всего на несколько шагов, и остановился, переводя дыхание и вглядываясь в темноту. Я не видел его, но знал, что он здесь.
— Модена, — произнес я тихо в пространство, — это Лин. Не бойся, я… я просто хочу поговорить с тобой. Я положу сумку и раскурю пару сигарет, для тебя и для меня, ладно?
Я медленно положил сумку на землю, готовый к тому, что он попытается проскочить мимо меня, и достал две сигареты «биди» из пачки в кармане рубашки. Зажав их между третьим и четвертым пальцами толстыми концами внутрь, как делали все бедняки, я достал спички и поджег одну из них. Пока пламя плясало на концах сигарет, я вгляделся в глубину тупичка и увидел его. Он забился в самый темный угол. Когда спичка потухла, я протянул вперед руку с зажженной сигаретой. Прошла секунда, две, три, и я почувствовал, как его пальцы с удивительной осторожностью коснулись моих и взяли сигарету.
Мы курили молча, и в слабом красноватом свете сигареты я наконец смог хоть как-то разглядеть его лицо. Это был жуткий гротеск. Маурицио так его изрезал и искромсал, что на него страшно было смотреть. Я заметил насмешливую улыбку, появившуюся в глазах Модены, когда он увидел ужас в моих. Сколько раз, подумал я, видел он этот ужас в глазах окружающих — эту белую безграничную жуть, которую они испытывали, представляя себя на его месте, его страдания в своей душе? Сколько раз он видел людей, содрогающихся, как я, и невольно отшатывающихся от его шрамов как от открытых заразных гнойников? Сколько раз люди спрашивали себя: «Что же он сделал, чтобы понести такое наказание?»
Стилет Маурицио разрезал кожу под обоими глазами, и от нижних век вниз тянулись длинные клиновидные шрамы, словно отталкивающие издевательские следы, оставленные слезами. Раны на нижних веках, незажившие до конца, зияли, как красные вместилища агонии, и открывали все глазное яблоко. Крылья носа и перегородка были рассечены до кости. Кожа на крыльях наросла неровными складками, в центре же разрез был слишком глубоким, и здесь осталась дыра, которая расширялась с каждым вдохом, как у свиного пятачка. Множество шрамов виднелись также вокруг глаз, на щеках и на лбу, образуя в совокупности рисунок, похожий на растопыренную человеческую пятерню. Можно было подумать, что Маурицио задался целью содрать всю кожу с этого лица. Под одеждой также наверняка было на что посмотреть: Модена с трудом двигал левой рукой и ногой, словно локтевой, плечевой и коленный суставы закаменели вокруг так и не закрывшихся ран.
Он был чудовищно изувечен, с такой расчетливой жестокостью, что я буквально онемел, не находя слов. С удивлением я увидел, что рот не был поврежден, и подивился прихоти судьбы, оставившей столь прекрасно вылепленные чувственные губы нетронутыми, но затем вспомнил, что Маурицио заткнул ему рот кляпом, лишь время от времени вынимая его, когда требовал ответа на свои вопросы. И эти гладкие безупречные губы, затягивавшиеся сигаретой, казались мне самой страшной раной из всех.
Мы в молчании докурили сигареты до конца. Тем времнем глаза мои привыкли к темноте, и я обратил внимание на то, каким маленьким он стал, как скрючили его повреждения на левой стороне тела. Я нависал над ним, как башня. Подняв сумку, я сделал шаг назад, к свету, и кивком пригласил его за собой.
— Гарам чай пио? — спросил я. — Выпьем горячего чая?
— Тхик хайн, — ответил он. — Давай.
Миновав проулок с бездомными, мы нашли чайную, куда заходили между сменами рабочие с соседней мукомольни и пекарни. Несколько мужчин, сидевших на скамейке, подвинулись, освобождая нам место. Они были с ног до головы покрыты мукой и выглядели не то как отдыхающие призраки, не то как ожившие гипсовые статуи. Их глаза, испытывавшие постоянное раздражение из-за муки, были красными, как угли под печами, в которых они выпекали хлеб. Влажные рты, тянувшие чай с блюдец, напоминали черных пиявок, шевелящихся на фоне мертвенной белизны. Они уставились на нас с обычным для индийцев откровенным любопытством, но стоило Модене поднять зияющие раны своих глаз, как они отводили взгляд.
— Зря я побежал от тебя, — тихо произнес он, разглядывая свои руки, сложенные на коленях.
Я ждал, что он скажет что-нибудь еще, но он плотно сомкнул губы в полугримасе и громко дышал расширяющейся носовой дырой.
— У тебя… все в порядке? — спросил я, когда нам подали чай.
— Джарур, — ответил он, слегка улыбнувшись. — Конечно. — А у тебя?
Я решил, что он иронизирует, и сердито посмотрел на него.
— Я не хотел тебя обидеть, — улыбнулся он. Улыбка его выглядела очень странно — идеальная в изгибе губ, она деформировалась на безжизненных щеках и, оттягивая кожу вниз, обнажала страдание, скопившееся в углублениях нижних век. — Я спрашиваю всерьез, потому что могу тебе помочь, если надо. У меня есть деньги. Я ношу с собой десять тысяч рупий.
— Что-что?
— Я ношу с собой…
— Да-да, я понял тебя. — Хотя он говорил тихо, я посмотрел на мукомолов, боясь, как бы они не услышали его. — А почему ты следил за мной на рынке?
— Я часто слежу за тобой, почти каждый день. Я слежу также за Карлой, Лизой и Викрамом.
— Зачем?
— Чтобы через вас найти ее.
— Кого?
— Уллу. Когда она вернется. Она ведь не знает, где меня искать. Я больше не хожу в «Леопольд» и другие места, где мы вместе бывали. Она будет спрашивать обо мне у кого-нибудь из вас. И тогда я ее увижу, и мы будем вместе.
Он говорил с таким спокойствием и такой уверенностью, что это лишь подчеркивало абсурдность его слов. Как можно было верить, что Улла, которая оставила его, истекающего кровью, умирать, вернется к нему из Германии? И даже если она вернется, что, кроме ужаса, она испытает при виде его изуродованного лица, превратившегося в маску скорби?
— Улла… уехала в Германию, Модена.
— Я знаю, — улыбнулся он. — Я рад за нее.
— Она не вернется.
— О нет, — ответил он спокойно. — Она вернется. Она любит меня и приедет ко мне.
— Почему… — начал было я, но остановился. — Чем ты занимаешься?
— У меня есть работа. Хорошая работа, хорошо платят. Мы работаем на пару с моим другом, Рамешем. Я познакомился с ним, когда… после того, как это случилось со мной. Он ужахивал за мной. Мы с ним ходим в дома к богатым людям, когда у них рождается сын. Я надеваю свой костюм.
Он произнес последнее слово с нажимом и такой кривой ухмылкой, что оно прозвучало зловеще. У меня даже волоски зашевелились на руках.
— Костюм? — переспросил я хрипло.
— Да. Я прицепляю длинный хвост и заостренные уши, на шею надеваю ожерелье из маленьких черепов. Я изображаю демона, злого духа. А Рамеш одевается как святой человек, садху, и прогоняет меня из дома. Но я крадусь обратно и притворяюсь, что хочу украсть младенца. Женщины в ужасе кричат, Рамеш опять прогоняет меня, я опять возвращаюсь, и так до тех пор, пока он окончательно не побеждает меня. Я делаю вид, что умираю, и убегаю. Люди платят неплохие деньги за это представление.
— Никогда не слышал о таком обычае.
— Мы с Рамешем сами это придумали. После того, как мы выступили впервые и нам заплатили, другие тоже захотели, чтобы их малыша навсегда избавили от злого духа. Мы столько зарабатываем, что я даже снял квартиру — не купил, конечно, но заплатил за год вперед. Она маленькая, но уютная, в ней есть все, что нужно. Нам с Уллой будет в ней хорошо. Из окна видно морские волны. Улла очень любит море. Она всегда хотела жить рядом с морем.
Я глядел на Модену, пораженный не только его словами, но и тем, что он вообще говорил. Он был одним из самых неразговорчивых людей, каких я знал. Раньше мы с ним регулярно встречались в «Леопольде», и он неделями не произносил ни слова. А новый Модена, изуродованный и воскресший из мертвых, был говоруном. Правда, мне пришлось загнать его в темный угол, чтобы вызвать на разговор, но, нарушив молчание, он сразу стал удивительно болтлив. Слушая его и пытаясь приспособиться к этому деформированному и разговорчивому варианту Модены, я обратил внимание на особую мелодичность, которую придавал испанский акцент его речи, смешивавшей хинди с английским и создававшей какой-то новый гибрид, его собственный язык. Убаюканный его голосом, я спросил себя, не в этом ли разгадка таинственной связи между Уллой и Моденой. Возможно, они часами говорили друг с другом наедине, и музыка слов объединяла их.