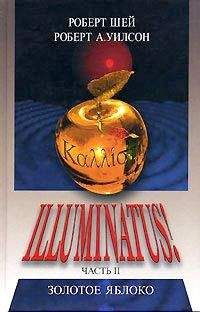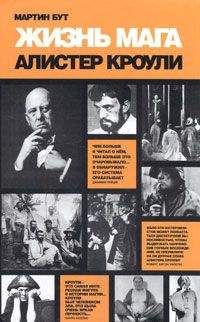А теперь грокай, Джордж. Я знал их лучше любого белого человека. Они учились доверять мне, а я – им. Но когда они разыгрывали свою маленькую шутку, я сидел рядом и нимало не подозревал о возможном подвохе. Хотя уже тогда я начал открывать в себе телепатический дар и даже учился искусству концентрации мысли. Задумайся об этом, Джордж. Задумайся о всех чернокожих с их бесстрастными лицами, которых ты встречал. Задумайся, что всякий раз, когда чернокожий совершал какой-нибудь поразительно, ну просто фантастически глупый поступок, ты ощущал расовую неприязнь – которой, как радикал, конечно же, стыдился – и начинал подумывать, что, может быть, они и впрямь стоят на низшей ступени развития. А еще подумай о том, что девяносто девять процентов женщин белой расы, кроме норвежек, все время ведут себя как Глупые Квочки или как Мерилин Монро. Задумайся об этом на минуту, Джордж. Задумайся.
Воцарилось молчание, которое, казалось, растягивалось в какой-то длинный коридор почти буддийской пустоты – наконец-то! Джордж увидел этот проблеск Пустоты, которую пытались описать всего его дружки-кислотники, – и затем вспомнил, что это было не то, к чему его подталкивал Хагбард. Но молчание затягивалось, успокаивая дух, словно штиль в торнадо этих последних нескольких дней, и Джордж внезапно осознал, что размышляет абсолютно бесстрастно, не испытывая ни надежды, ни страха, ни самодовольства, ни чувства вины; и если не совсем уж без эго, не в состоянии абсолютной даршаны[22], то, по крайней мере, без того разгоряченного и ненасытного эго, которое обычно либо выскакивает вперед, либо отступает перед голыми фактами. Он созерцал свои воспоминания, сохраняя безразличие, объективность, душевный покой. Он размышлял о чернокожих и женщинах и об их тонкой мести Хозяевам, актах саботажа, которые не распознаются как таковые, поскольку принимают форму актов подчинения. Он размышлял об индейцах из племени шошонов и их грубой шутке, удивительно похожей на шутки всех угнетенных людей в любой точке мира; он внезапно понял смысл Карнавала, и «Пира Дураков», и Сатурналий, и Рождественской Вечеринки в Офисе, и всех прочих ограниченных, позволительных, структурированных событий, в которых допускалось фрейдовское Возвращение Вытесненного; он вспоминал разные эпизоды, когда мстил профессору, директору школы, бюрократу или, еще раньше, своим родителям, дожидаясь удобного случая, чтобы сделать именно то, что от него ожидалось, превратив это в маленькую диверсию. Он видел мир роботов, которые, чеканя шаг, маршируют по дорогам, проложенным для них сверху, и видел, что каждый робот частично жив, и в нем теплится частица человека, дожидающегося удобного момента, чтобы поставить палки в колеса Механизма. И наконец он понял, почему все в мире работает неправильно и почему «Обстановка Нормальная» – это всегда «Абсолютный Бардак».
– Хагбард, – медленно произнес он. – По-моему, я понял. Эволюция происходит в обратном направлении. Все наши беды начались из-за послушания, а не из-за непослушания. И человечество еще не сотворено.
Хагбард, больше обычного похожий на ястреба, отчеканил:
– Ты приближаешься к Истине. Теперь будь осторожен, Джордж. Истина – это не собака, которую можно загнать в конуру, как писал Шекспир. Истина – это тигр. Будь осторожен, Джордж.
Он развернулся на стуле, выдвинул ящик письменного стола в псевдо марсианском стиле и вытащил оттуда револьвер. Джордж, хладнокровный и одинокий, словно взошедший на Эверест, наблюдал, как Хагбард открыл барабан револьвера и показал, что в нем шесть пуль. Затем щелчком закрыл его и положил револьвер на стол. Потом Хагбард отвернулся и больше на него не смотрел. Он наблюдал за Джорджем. Джордж наблюдал за револьвером. Снова вспомнилась сцена с Карло, но вызов Хагбарда был безмолвным. Его спокойный взгляд не выражал и мысли о том, что состязание началось. Револьвер мрачно посверкивал; он нашептывал о насилии и хитрости, свойственных этому миру, о предательствах, которые не снились Медичи или Макиавелли, о ловушках для невинных жертв; казалось, его присутствии наполняло каюту особой аурой. Он казался даже коварнее ножа, оружия трусов, или плети в руках человека со слишком сладострастной, слишком интимной, слишком хитрой улыбкой; он вошел во внутреннюю тишину Джорджа, внезапный и неотвратимый, как гремучая змея, встреченная на пути ярким солнечным весенним днем в мирном и ухоженном городском саду. Джордж слышал, как в его кровяной поток начал вливаться адреналин; видел, как «синдром активации» увлажнил его ладони, участил сердцебиение, чуть-чуть ослабил сфинктер; и по-прежнему ничего не чувствовал, возвышенный и невозмутимый на своей горной вершине.
– Робота, – сказал он, взглянув наконец на Хагбарда, – победить легко.
– Не суй руку в этот огонь, – предупредил Хагбард, на которого слова Джорджа не произвели никакого впечатления. – Обожжешься. – Он наблюдал; он ждал. Джордж не мог оторвать взгляд от этих глаз, а затем он увидел в них веселье дельфина Говарда, презрение директора школы («Высокий коээфициент умственного развития, Дорн, не служит оправданием для высокомерия и непокорности»), безнадежную любовь матери, которая никогда его не понимала, пустоту кота Немо, жившего у него в школьные годы, угрозы школьного хулигана Билли Холца и абсолютную инаковость насекомого или змеи. Более того: он увидел Хагбарда ребенком, который, как и сам Джордж, гордился своим интеллектуальным превосходством и боялся мести со стороны менее умных, но более сильных мальчишек; и очень старого Хагбарда, через много-много лет, сморщенного как рептилия, но все еще демонстрирующего бесконечно глубокий интеллект. Лед таял; гора с рокотом протеста и неповиновения рушилась; и Джорджа понесло вниз, вниз по реке, стремительно мчавшейся к порогам, где ревела горилла и проворно семенила мышь, где над листвой триасского периода вздымалась голова ископаемого ящера, где дремало море, а спирали ДНК скручивались в направлении вспышки, которая сейчас была этим сиянием, гневно ропщущим на почти неправдоподобное угасание света, этот взрыв и это сгущение в точку.
– Хагбард… – вымолвил он наконец.
– Я знаю. Я вижу. Только не впадай в крайности. Это Ошибка Иллюминатов.
Джордж слабо улыбнулся, еще не вполне вернувшись в мир слов.
– «Вкусите и будете как боги?» – вопросительно процитировал он.
– Я называю это «впадением в отсутствие эго». И это, как ты понимаешь, самое мощное удовлетворение эго. Этому может научиться кто угодно. Двухмесячный ребенок, собака, кошка. Но когда взрослый человек, годами и даже десятилетиями привыкший слушаться и подчиняться, открывает это для себя заново, с ним может случиться полная катастрофа. Вот почему дзэнские роси говорят: «Достигший высшего просветления подобен стреле, летящей прямо в ад». Помни, что я говорил об осторожности, Джордж. Ты можешь освободиться в любой момент. Там потрясающе, но тебе нужна мантра, которая поможет тебе удержаться здесь, пока ты не узнаешь, как пользоваться этой свободой. Если бы ты знал опасность, которой подвергаешься, то не побоялся бы выжечь ее каленым железом на собственной заднице, чтобы никогда не забыть. Вот твоя мантра: «Я – Робот». Повтори.
– Я – Робот.
Хагбард скорчил гримасу павиана, и Джордж наконец-то снова рассмеялся.
– Когда у тебя будет время, – сказал Хагбард, – загляни в мою маленькую книжечку «Не свисти, когда писаешь». Она валяется повсюду на этом корабле. Это мое удовлетворение эго. И помни: ты – робот и никогда не станешь никем другим. Конечно же, ты еще и программист, и даже метапрограммист; но это другой урок для другого дня. А сейчас просто помни: млекопитающее, робот.
– Я знаю, – сказал Джордж. – Я читал Т. С. Элиота, и теперь я его понимаю. «Смиренье бесконечно».
– А человечество сотворено. Остальные… это… не… человечество.
И тогда Джордж сказал:
– Итак, я прибыл. И это всего лишь очередная стартовая площадка. Начало другого путешествия. Более тяжелого путешествия.
– Тебе открылся другой смысл фразы Гераклита. «Начало есть конец». – Хагбард встал и отряхнулся, как собака. – Ээх, – рявкнул он. – Пойду-ка я поработаю с БАРДАКом. Можешь остаться здесь или вернуться в свою каюту, но советую тебе не мчаться сразу же с кем-нибудь обсудить все это. А то можешь выговориться до смерти.
Джордж остался в каюте Хагбарда и задумался. У него не было настроения выводить каракули в дневнике, прибегая к обычному еще с юности приему защиты от тишины и одиночества. Напротив, он наслаждался тишиной каюты и глубокой внутренней тишиной. Он вспомнил, что Святой Франциск Ассизский называл собственное тело «братом Ослом», а Тимоти Лири, ощущая усталость, говорил: «Роботу нужно поспать». Это были их мантры, их защита от ощущения пребывания на вершине горы, которое порождало ужасное высокомерие. А еще ему вспомнилось старое классическое объявление в «подпольной» газете: «Держи меня под кайфом – и я буду трахаться с тобой вечно». Он пожалел убогую женщину, которая дала это объявление: жалкая современная пародия на исступленного Симеона Столпника. Прав был Хагбард: любая собака или кошка может это сделать – запрыгнуть на вершину горы и бесстрастно дожидаться, выдержит ли это испытание Робот, брат Осел или же помрет. В этом была суть первобытных обрядов инициации: провести юношу через переживание смертельного страха к состоянию освобождения, подняв на вершину горы, а затем снова вернуть его вниз. Джордж вдруг понял: его поколению, заново открывшему священные наркотики, не удалось заново открыть их правильное употребление… Не удалось или не было позволено. Ясно, что иллюминатам не нужны конкуренты в богочеловеческом бизнесе.