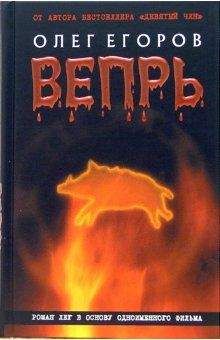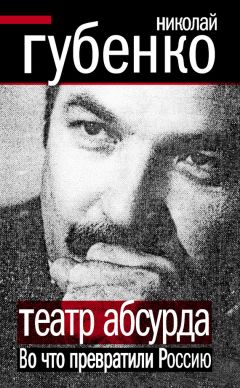"Если у них с бабкой это семейное, то мое дело — дрянь". — Толкнув незапертую дверь, я прошел через сени в светлицу. Точнее, в темницу. Портьеры на окнах были плотно задернуты.
Голландская с изразцами печь распространяла вокруг тепло, хотя Ольга Петровна Рачкова-Белявская, кажется, не поднималась из своего кресла, с тех пор как потеряла зрение. А Настя не вставала с постели более суток. Значит, кто-то похлопотал. Я прикоснулся к самовару на столе с белоснежной скатертью. Самовар еще не остыл.
Лицо Ольги Петровны поворачивалось вслед за моими перемещениями. Я был уверен: она знала, что это — я.
— Извините покорно, что без доклада, и позвольте присесть. — Я зачем-то поклонился.
Черту бы она скорее позволила сесть. Я поставил стул напротив помещицы и устроился так, чтоб видеть на родовитом челе ее любую морщину, любую набежавшую тень. Вообще любую реакцию на мои вопросы.
— Разговор наш будет длинный и скучный, — произнес я, глядя в ее мертвые глаза. — Как романы Диккенса. Американские поселенцы когда-то читали их на ночь в семейных кругах.
Предмет одежды, который Ольга Петровна вязала с тех пор, как я очнулся после встречи с вепрем, обрел уже законченные очертания. Это был свитер цвета зрелой черешни с воротником под горло. Свитер лежал на ее коленях. Спицы теперь сменила игла. Старуха короткими стежками сшивала две половины шерстяной кольчуги внушительного размера. Кому сей наряд предназначался, я не представлял.
— Не прикажете ли чаю? — периферийным зрением я заметил, как слева от меня чуть шевельнулась ситцевая занавеска, отрезавшая от комнаты чулан, где хранились вещи Настиного отца. В частности, уже подаренные мне байковые кальсоны. Донашивать за покойником, конечно, плохая примета, но я — донашивал. В Пустырях вообще хороших примет не осталось. А холода стояли собачьи. Караул подтвердил бы. Так что с практической стороны дела Настя была права: "Лучше носить чужие подштанники, чем заработать простатит".
— Ну, как угодно-с. — Колебания занавески не вызвали во мне ответных вибраций. Я твердо решил продолжать в том же духе. В конце концов, мы не с Гертрудой отношения выясняли, и кидаться в крайности, протыкая шпагой чужое имущество, было глупо.
— Вот что. — Я лишь сменил тактику. — Пару актов мы пропустим. Сактируем, как сказала бы Дуся. Чтобы следующий свитер не начинать. Знаю — не жалуете вы меня, Ольга Петровна. Известно, "скубент". Разночинец, хам, выскочка и все такое. Не партия для внучки вашей. Впрочем, партия давно звучит у нас как-то… Не звучит, одним словом. Но и вы поймите: вам с Настей оставаться здесь далее никак нельзя. Оставаться здесь опасно, а невеста моя на сносях. Решайтесь, Ольга Петровна. Есть смысл. Москву посмотрите.
На последнее мое бестактное предложение слепая старуха тоже никак не отреагировала. Даже игла, зажатая в ее тонких изящных пальцах, не замедлила движения.
— А сейчас я ищу бубен. Отдайте мне его, и простимся. — Я встал и выглянул в окно, отодвинув портьеру.
Смеркалось. Пора было возвращаться в семейное лоно.
— В каком году супруга вашего, Михаила Андреевича Белявского, чекисты забрали? В тридцать втором? Или в тридцать седьмом? Известно, что еще до дела врачей-вредителей. К тому же ветеринары в эту категорию, кажется, и не вписывались. Кто забирал? Обрубков?
— Ба! — прозвучало сзади восклицание. — Мой юный друг!
Я резко обернулся. Из чулана вышел Паскевич с распростертыми объятиями. Вероятно, я должен был кинуться в них и пасть на грудь заведующего клубом.
— А я вот с оказией к нашей Ольге Петровне! — Мой отрешенный вид никак не укротил и не озадачил Паскевича. — Да и задремал себе в чуланчике. Пригрелся, знаете. Рак легких. Только теплом и лечусь.
Он по-хозяйски взял из буфета фарфоровую чашку и подставил под кран самовара. Тонкая струйка наполняла ее словно бы нехотя. Не нравился дворянскому самовару Паскевич. И мне не нравился. Желание нахамить ему я, однако, обуздал до поры до времени.
— Вам не предлагаю. — Развернув извлеченный из кармана бумажный пакетик, он высыпал в рот его содержимое и запил водой. — А бубен, что вы ищете, с кабанчиком на обложке, так он в клубе. Среди духовых пылится который уж десяток. Оркестра у нас нет, вот что я вам скажу. Даже с музыкой проводить товарища Фаизова не имеем возможности. Но залп — обязательно.
— Залп?!
— Отдание почестей. — В сообщении Паскевича прозвучали скорбные нотки.
— Залп уже был, — отозвался я мрачно. Подвижности и выразительности, какой обладала физиономия Паскевича, мог бы позавидовать самый одаренный мим. Только что на ней мелькнуло удрученное выражение, и тут же на смену ему пришла целая комедия масок.
— Бубен-то казенный, — забормотал Паскевич весьма озабоченно, разгуливая по комнате. — Культурный памятник, будь он проклят. Охраняется государством.
Чувство долга, подкрепленное игрой желваков, боролось в нем с тороватостью, блестевшей во взоре. Печать сомнений размывалась на фиолетовом челе приливами щедрости. Я с любопытством наблюдал за схваткой, пока щедрость не повела в счете и не победила по очкам.
— Эх! — вскричал Паскевич. — Да бес с ней, с отчетностью! Семь бед — один ответ! Презентую! Нынче же презентую! Идемте! Лишь тот посмертных почестей достоин, кто каждый день идет за них на бой!
Заведующий поманил меня, направляясь вон из комнаты. Я подошел к Ольге Петровне, наклонился и поцеловал ее украшенное рубиновым браслетом запястье.
— Наденете, когда час пробьет, — прошептала она еле слышно, сунув мне в руки свитер. — На нем кровь не видна.
Паскевич нетерпеливо переминался у двери.
— Что же вы, друг мой? — воскликнул он. — Или раздумали? Отличный бубен! Работы старых мастеров! Сам бы на нем играл, да легкие не позволяют! Позвольте откланяться, Ольга Петровна! Дела!
"Какой час она имела в виду? — недоумевал я, направляясь к поместью в сопровождении Паскевича. — Час как таковой или конкретно сегодняшний?" До назначенного времени оставалось еще часов шесть.
— Слушайте и запоминайте, — нарушил молчание Паскевич. — Барон Унгерн фон Штернберг Роман Федорович, есаул Забайкальского казачьего войска. Упорный враг. Произведен самозванцем Гришкой Семеновым в генералы за то, что резал бойцов революции. Командовал Конно-азиатской дивизией. Узурпировал власть в Монголии. Отличался коварством и жестокостью. "Берг" в переводе с немецкого значит "гора". Мы ее срыли.
Целину, отделявшую Пустыри от поместья, нам удалось пересечь без особенных затруднений. Две колеи, проложенные колесами "уазика" следственной группы, облегчили нам задачу. После бани группа возжелала сразиться в "американку" на детском бильярде, поведал мне Паскевич.
— На интерес резались, — ехидно заметил он. — Товарищ Пугашкин продул ящик пива товарищу Евдокии Васильевне.
Мы почти уже дошли. Освещенное лунным светом поместье, распахнув крылья, как давеча Паскевич свои объятия, дожидалось нас в конце аллеи. И тот момент оно было похоже на дохлого краба.
— Кстати, о медицине, — обратился я к спутнику. — Вы про доктора ничего не сказали.
— Про доктора, — Паскевич замедлил шаг. — А что про доктора?
— Про барона и доктора.
— Ах, вот мы о чем? И какая же сорока принесла вам на хвосте информацию?
— Сорока? — Я невольно усмехнулся. — Очень вы проницательны, друг мой.
В который уж раз моя беспечность обернулась трагедией. Впрочем, не стоит забегать.
— Про доктора, значит. — Лицедей Паскевич, будто набравшись решимости, обнял меня за талию. — Ладно. Открою вам карты. В хайларском гарнизоне был наш человек. Доктор Григорьев. В задание его входила дискредитация барона и вообще белого движения. Он должен был вызвать мятеж среди ассирийцев, бурят и прочего сброда, обманутого Унгерном. Миссия доктора, к сожалению, провалилась. Расстрелян военно-полевым судом по приказу барона. Увековечен.
Чем и где "увековечен" вышеназванный миссионер, Паскевич не сообщил.
— Так это не Белявский? — разочарование мое было столь искренним, что бывший чекист расхохотался.
— Ох, вы меня удивляете, молодой человек! — Ключ в его пальцах, обтянутых замшевой перчаткой, долго не мог найти замочную скважину. — Ох, вы меня удивляете! Ох…
Он вдруг схватился за бок.
— Еще и почки, — произнес, отдышавшись, Паскевич. — Еще и почки. У вас почки здоровые?
— Не жалуюсь.
— Это пройдет! Однако поторопимся!
Духовые инструменты были свалены в кучу посреди каморки с ободранными сырыми обоями. Инструментов там хватило бы на сводный военный оркестр. В поисках бубна Паскевич минут пять гремел медными трубами, литаврами и тромбонами. Наконец он извлек из развала фамильную реликвию Белявских. Бубен выглядел примерно так же, как он был описан в "Созидателе". С невольным трепетом я взял его в руки. Да. Это был он.