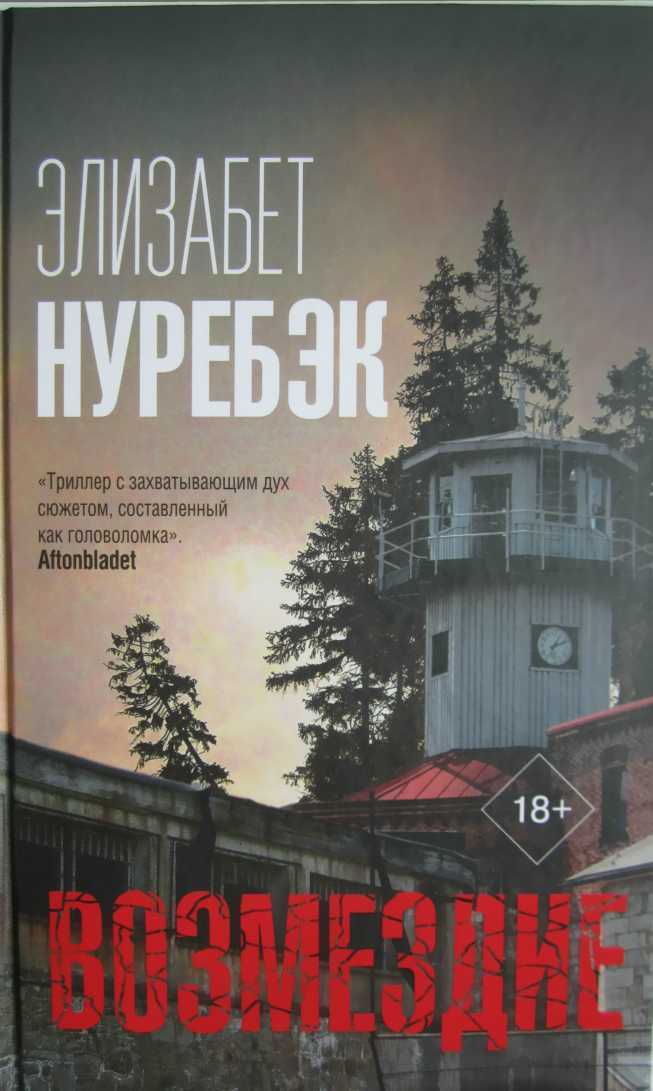class="p1">
— Ты говоришь, что вы с ним собирались развестись, у вас были натянутые отношения?
— Он изменился, — отвечаю я. — Стал совсем другим человеком.
— Что произошло?
— Это случилось весной, — начинаю я. — Или еще раньше. Симон начал изменять, когда заболела моя мама.
А потом она умерла, и тут я его застукала. После этого я познакомилась с Алексом, и мы были вместе все лето — до той самой вечеринки в сентябре.
Я пытаюсь объяснить, какие чувства испытывала к Симону все это время. Я ненавидела его и с нетерпением ждала развода. Я по-прежнему любила его и горевала, что все оборвалось. Попытки безнадежны, и в конце концов я замолкаю. Как объяснить все это постороннему человеку, когда я сама не могу разобраться?
Лукас Франке меняет, тему. Он хочет узнать, ощущала ли я угрозу со стороны Симона. Могла я действовать из опасений за свою собственную жизнь? В этан случае мы могли бы сослаться на необходимую оборону.
Даже не задумываясь, я отвечаю «нет». Я действовала не из самообороны. Не хуже любого другого я понимаю: все выглядело бы куда лучше, если бы я чувствовала угрозу, но врать не могу. Я была расстроена, сердита на Симона, но не боялась его. Он никогда не применял насилия и даже не угрожал мне на словах. Он сделал мне больно, это так, но всячески пытался загладить это и помириться со мной.
Адвокат что-то записывает в блокнот и вздыхает.
* * *
Лукас сказал, что все образуется, надо только сосредоточиться на чем-то одном. Потом попросил меня своими словами изложить все то, что произошло между мною и Симоном. Не то, что писали в газетах. Просил не спешить и ничего не пропускать.
— Ты справишься с этим? — спросил он.
— Газеты? — переспросила я. — Что ты имеешь в виду?
Только в эту минуту я поняла, что измена Симона уже стала всеобщим достоянием, и все пикантные подробности обсасывались в прессе. Я не понимала, к чему теперь мои собственные слова.
— Я вынужден задать тебе эти вопросы, — ответил Лукас Франке. — Тебе придется еще не раз отвечать на них во время допросов. К сожалению.
В этом он оказался совершенно прав.
Допросы вел Тони Будин, он взял на себя главную роль, в то время как его помощник, Юхан Фошель, не сводил с меня водянистых голубых глаз. Заметно было, что они не впервые проводят допрос. Они подчеркнули, что в гостевом домике находились только я и Симон, напомнили мне о ноже, который обнаружили там, о ДНК, отпечатках пальцев и следах крови в комнате. Все улики указывали на двух людей: Симона Хюсса и Линду Андерссон. И не подозрительно ли, что несколько часов просто вычеркнуты из моей памяти?
То, что меня усыпили, вовсе не соответствовало действительности. В крови не обнаружили никаких субстанций, которые бы на это указывали. И они считали, что мне лучше сразу признаться: царапины на левой руке вовсе не от разбившейся бутылки — я получила их тогда, когда Симон пытался отобрать у меня нож. Никто из свидетелей не подтверждает, что в кухне разбилась бутылка, как это утверждаю я.
Я слышала, что они говорят. И видела по ним, что они абсолютно не верят в мою версию. На той вечеринке я была человеком, у кого могли иметься мотивы. И далее разговор перешёл на нашу с Симоном интимную жизнь и предстоящий развод. Ничего святого, никакой неприкосновенности частной сферы.
— Однако под лупой рассматривались не только наши отношения и все, что привело к последнему дню и последней ночи в его жизни. Речь шла обо всей моей жизни. Их интересовала малейшая деталь, какой бы незначительной она ни казалась. Заметив, что я устала, они между делом задавали всего один вопрос, как будто мы сидели и просто болтали. Они проявляли любопытство, словно им было не наплевать на меня, словно они хотели узнать меня получше. Но если что-то в ответах звучало противоречиво или двусмысленно, они тут же хватались за это.
Поэтому я стала внимательнее относиться к тому, что говорила. Отказывалась давать им то, что они хотели узнать, не желала доставлять им удовольствия слышать, как Солнечная девочка, несмотря на свое привилегированное детство, жалуется, что ее предали и бросили. Не желала допускать их в то, что происходило между мной и Алексом, или в последние недели жизни мамы. Я не желала, чтобы меня анализировали и судили исходя из того, что меня вынудили сказать в комнате для допросов в Крунубергской тюрьме.
Поскольку они ничего не смогли от меня добиться, меня отвезли на дачу, где водили по месту происшествия — как мне показалось, несколько часов.
Когда мы идем к гостевому домику, ноги кажутся такими тяжелыми, что я едва могу делать шаг. Я вынуждена сосредоточить все внимание на том, чтобы ставить одну ногу впереди другой — полицейский тянет за ручку на поясе, к которому я прикована наручниками, заставляя меня двигаться вперед.
Лукас Франке кладет руку мне на плечо и что-то говорит, но я не слышу, что именно. Сердце бьется так отчаянно, что его стук отдается болью в ребрах. Я поднимаюсь по лестнице в прихожую, подхожу к дверям спальни. Там останавливаюсь и оглядываюсь вокруг. Не знаю, что я ожидала увидеть, но там нет никаких следов насилия или крови. На полу новый ковер, а на кровати лежит бабушкино покрывало, синее с белыми полосами. Его отдали в химчистку? Или на него не попала кровь? Память подводит, я не помню ничего, кроме того, как я проснулась здесь. Все выглядит так, как выглядело всегда, мне остается только поверить им на слово, что Симон умер в этой комнате, больше ничего не остается. Сама я его мертвым не видела. Может быть, все это дикая чудовищная шутка? Я чувствую, что уже готова рассмеяться от облегчения, но тут полицейский, стоящий рядом, бросает на меня странный взгляд, и я закрываю глаза.
Комната тут же становится той, в которой я проснулась. Лужа крови на полу, брызги на стенах, у меня на руках и окровавленном платье. Острый запах, проникающий в нос и в горло.
Я снова открываю глаза.
Тони Будин просит меня рассказать, что произошло, когда я пришла сюда ночью. Я ложусь на кровать, показываю, как легла на бок в ожидании.
— Зачем ты взяла с собой нож? — спрашивает он.
— Я его не брала.
— А как иначе он оказался здесь? Ты сказала, что он лежал в кухне в большом доме?
— Точно не помню. Мне так кажется.