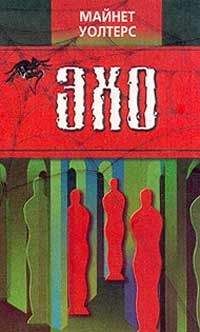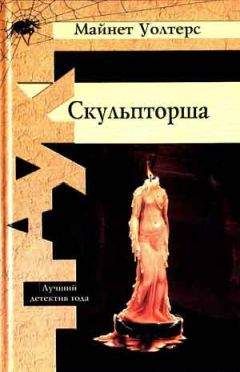Он тупо посмотрел на хозяйку и вытер пот со лба.
— НЕ ЗНАЮ. — Майкл заметил, что на ее лице появилось явное раздражение. — Не знаю! — рявкнул он, ощутив прилив ярости. — Я растерялся и не понимал, где нахожусь. Так вас устраивает? Это хотя бы в вашем доме разрешается? Или все, кто сюда входит, должны ежесекундно себя контролировать?! — Он нагнул голову и зарылся лицом в полотенце. — Простите, — выдавил он немного погодя. — Я не хотел вам грубить. На самом деле я сейчас пытаюсь побороть самого себя. Дело в том, что я абсолютно ничего не помню.
— Вы появились здесь где-то около двенадцати.
— Один?
— Да.
— Почему вы меня впустили?
— Потому что вы ни за что не хотели убирать палец с кнопки звонка.
О Господи! О чем он вообще думал?!
— И что я вам наговорил?
— То, что я напоминаю вам вашу мать.
Дикон положил полотенце на колени и принялся аккуратно складывать его:
— Именно из-за этого я и заявился к вам?
— Нет.
— А как я объяснил свой визит?
— Никак. — Майкл посмотрел на Аманду с таким облегчением на измученном вспотевшем лице, что она не могла сдержать улыбки. — Вы упорно называли меня миссис Стритер, говорили о моем муже, его брате, о свекре. Ну, а потом высказали предположение, что этот дом со всей обстановкой был куплен на краденые деньги.
Вот черт!
— Я, наверное, перепугал вас?
— Нет, — спокойно ответила женщина. — Я давно уже никого не боюсь.
Майкл задумался над этой фразой. Почему Аманда ничего не страшилась, когда сам он пугался просто обыкновенной жизни, как таковой?
— У нас в редакции кто-то помнил ваше лицо еще с тех времен, когда у вас брали интервью по поводу исчезновения Джеймса, — заговорил Майкл, пытаясь найти хоть какое-то объяснение своей осведомленности. — Мне стало интересно узнать немного больше об этой истории.
Губа Аманды чуть заметно начала дергаться, но она промолчала.
— Вполне логично было поговорить с Джоном Стритером. Я позвонил ему и выслушал его версию случившегося. У него по поводу вас есть… э-э… некоторые сомнения, что ли…
— Я бы вряд ли назвала «некоторыми сомнениями» его обвинения. Ведь он называл меня и шлюхой, и убийцей, и воровкой. Очевидно, он просто не боится, что ему придется отвечать за это в суде.
Дикон снова приложил полотенце к губам. Нет, для такого разговора он сейчас не был готов. Он чувствовал себя полуживым объектом, распростертым на прозекторском столе. В любой момент его мог полоснуть острый скальпель.
— Вы могли бы выиграть это дело и получить большую компенсацию за моральный ущерб, — кивнул Майкл. — У него нет никаких доказательств.
— Разумеется. То, чем он располагает, — жалкая подделка.
Дикон допил кофе и поставил чашку на стол:
* * *
— О ты, погубивший родителя! Изводишь меня пыткой вечною… — неожиданно продекламировал он. — Это строчка из пророческого стихотворения Уильяма Блейка. — Майкл говорил так, словно все это время только и думал, что о творчестве поэта. — Здесь он в аллегорической форме изображает социальную революцию и политические перевороты. Поиск свободы означает разрушение установившихся авторитетов, другими словами, родителей. А порыв к достижению свободы означает, что каждое поколение испытывает одни и те же муки. — Он поднялся и посмотрел из окна на реку. — Уильям Блейк — Билли Блейк. Ваш непрошеный гость был поклонником творчества этого поэта, умершего почти двести лет назад. Почему в вашем доме так холодно? — внезапно спросил он, поплотнее запахивая плащ.
— Здесь тепло, а вот у вас началось похмелье, поэтому вы и дрожите.
Он внимательно посмотрел на Аманду. Она сидела, как излучающее свет солнышко, в своем дорогом платье, окруженная изысканной мебелью. И в воздухе при этом носилось благоухание роз… «Однако этот свет неглубок, только на уровне кожи», — почему-то подумалось Дикону. Под безупречной внешностью и роскошным фасадом дома притаилось полное отчаяние.
— Как только я проснулся, то почуял запах смерти, — заявил Майкл. — Уж не его ли вы пытаетесь спрятать при помощи ароматических смесей?
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — удивилась Аманда.
— Ну, может быть, это только мое воображение.
Она чуть заметно улыбнулась:
— Надеюсь, когда алкоголь выветрится у вас из организма, ваше воображение тоже придет в норму. Всего вам хорошего, мистер Дикон. Прощайте.
Он подошел ко входной двери:
— Всего вам доброго, миссис Стритер.
* * *
Выйдя с территории Аманды Стритер, Дикон обнаружил симпатичную поляну со скамейкой прямо на берегу Темзы, и решил посидеть немного на ветру, чтобы тот освежил его отравленный алкоголем организм. Прилив кончился, и четверо мужчин разбирали у кромки воды то, что принесла река за ночь. Все они были неопределенного возраста, закутанные, как и он сам, в плащи-накидки. По внешнему виду невозможно было сказать, кто они такие и чем занимались в прошлом. Любые предположения, которые мог бы построить сейчас Дикон, наверняка оказались бы такими же неверными, как и их догадки относительно его самого. Так же, как и в случае с Терри, Майкл был поражен тем, насколько невыразительны лица этих незнакомцев. Он снова должен был признать, что ни за что не узнал бы их в другой обстановке. Получалось, что разные глаза, носы и рты имели много общего между собой, и вот только выражения на лицах делали их отличными друг от друга. И еще, может быть, различные «украшения» в виде бороды или усов.
— Так каков же будет ваш приговор, Майкл? — неожиданно раздался позади журналиста негромкий голос. — Мы достойны спасения или все же обречены?
Дикон обернулся и увидел худого старичка с серебристо-белыми волосами, который, обогнув скамейку, присел рядом и принялся так же внимательно всматриваться в суетящихся на берегу мужчин. Майкл нахмурился, напрягая память. Где же он мог встречать этого старика? Журналист когда-то брал у него интервью, но все дело заключалось в том, что таких встреч было слишком много, и Дикон просто физически не смог бы запомнить все имена.
— Лоренс Гринхилл, — пришел на помощь старик. — Десять лет назад вы брали у меня интервью для статьи об эфтаназии. Ваш материал назывался «Свобода умереть». Тогда я еще работал адвокатом и написал большое письмо в «Таймс», где указывал на этические и практические отрицательные аспекты узаконенного самоубийства как для индивидуума, так и для всей его семьи. Вы еще тогда со мной не согласились и дали мне весьма нелестную характеристику. Вы назвали меня «благочестивым судьей, который говорит о высокой морали только для себя». Эти слова мне запомнились навсегда.
У Дикона все внутри опустилось.
Ну нет, только не это. Ведь он сегодня утром уже достаточно испытал угрызений совести. И вот он снова оказывается виноват…
— Да, я вас помню, — уныло отозвался он.
Да уж, такое не забывают. Этот старый зануда так самодовольно трактовал авторитет Библии, что Дикону хотелось задушить его. Но Гринхилл и не предполагал, что Майкл слишком трепетно относится ко всему вопросу в целом.
Самоубийство не может быть оправдано ни в какой его форме, Майкл… мы же проклянем сами себя, если посмеем взять ту власть над нашими жизнями, которая по праву принадлежит Господу…
— Простите, — быстро заговорил Дикон, — но я до сих пор не могу с вами согласиться. Моя философия не признает проклятия. — Он раздавил окурок каблуком ботинка, раздумывая над тем, верит ли он сам в только что сказанное.
Для Билли Блейка проклятие было вполне реальным… — Так же, как и спасение, потому что само это понятие меня беспокоит. Как мы спасаемся: от чего-то или для чего-то? Если первое, тогда наше право жить по собственным нормам этики оказывается под угрозой морального тоталитаризма. Если второе, тогда мы должны слепо следовать отрицательной логике, то есть верить в то, что только после смерти нас ждет что-то лучшее. — Он нарочито долго смотрел на свои часы. — Ну, я думаю, вы извините меня, но мне пора.
Старик негромко засмеялся:
— Как же легко вы сдаетесь, мой друг. Неужели ваша философия настолько хрупка, что не может защищаться в споре?
— Вовсе нет, — уверенно произнес Дикон и добавил: — Просто у меня есть много других, более достойных дел, чем судить о жизнях других людей.
— В отличие от меня?
— Да.
Старик улыбнулся:
— Но только я никогда никого не судил. — На секунду он задумался. — Вам известны такие слова Джонна Донна: «Смерть каждого человека делает меня чуть меньше, ибо я принадлежу к человечеству».
Дикон без запинки закончил цитату:
— «Поэтому не узнавайте, по ком звонит колокол: он звонит по вам».
— Вот и скажите мне, разве неправильно просить человека о том, чтобы он продолжал жить, даже если его мучает боль. Ведь его жизнь для меня более значима и более драгоценна, чем его смерть?