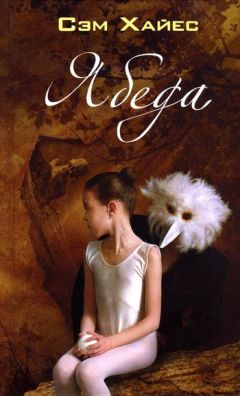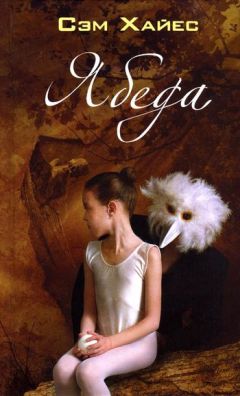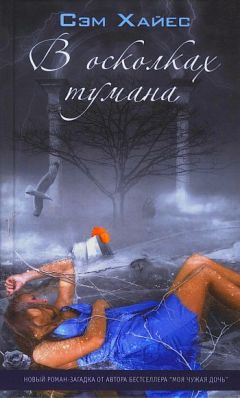— Ты меня спас, — говорю я, накидывая куртку. — Теперь мы квиты.
Середина октября; каждый вечер приносит осеннюю свежесть. Впереди, уже на следующей неделе, зияют пропастью осенние каникулы.
Мне светил долгий вечер со слезами наших плакс, но Сильвия вызвалась подменить.
— В это время года они всегда очень скучают по дому, хотя, по-моему, дело не в том, что они так уж жаждут вернуться к родителям, а в том, что потом снова возвращаться в школу. Для многих, особенно для первоклашек, это самое тяжелое.
Я согласна: Роклифф-Холл змеей вползает в невинные сердца.
— Я учился в школе-интернате, — продолжает Эдам, — и ненавидел каждую треклятую минуту, проведенную там. А теперь вот, по иронии судьбы, сам преподаю в интернате.
Дорожка, по которой мы удаляемся от школы, тянется на километры к западу от здания. Я думаю о словах Эдама — это пятнышко цвета на черно-белой картинке его жизни. Мне хочется узнать больше. Наше общение неожиданно и приятно мне, как островок безопасности в общем хаосе. Если бы не выходка Кэти, его бы не было.
— А где ты учился? — Я застегиваю куртку до горла и приноравливаюсь к шагам Эдама — один его, два моих. — Там, где растут бананы?
Он мотает головой:
— Нет. В одном гадостном местечке в Бирмингеме. Странное, однако, дело.
— Ты о чем?
Мы выходим на пастбище, в меркнущем свете уходящего дня овцы — белые кляксы на желтовато-зеленом полотне. Животные перестают жевать и дружно поворачивают головы в нашу сторону.
— Гляди! — вполголоса восклицает Эдам и замирает, показывая на край поля. — Заяц! Счастливая примета. К богатству, если верить язычникам.
Заяц принюхивается и застывает неподвижно.
— Смотри, смотри, он нас заметил.
Заяц бросается под защиту живой изгороди и вдруг встает как вкопанный, только длинные уши шевелятся и черные глазки пристально следят за Эдамом, который снова говорит в полный голос.
— Я слышал, что ведьмы умеют оборачиваться зайцами. — Он косится на меня с ухмылкой. — Нет, правда.
— Ведьмы? — задумчиво повторяю я.
— Ага. В фольклоре сплошь и рядом одно живое существо может по своему желанию превращаться в другое.
— Что ты говоришь. — Я иду дальше, краешком глаза замечая, как заяц пулей скрывается в кустах.
— Думаешь остаться в Роклиффе навсегда? — интересуюсь я.
Мы пьем чай в учительской. Мы отшагали несколько километров, и к возвращению в школу щеки у меня были под цвет моей красной куртке. Эдама развеселила моя усталость, он сказал, что мне надо чаще гулять. Я улыбнулась, мне вдруг захотелось объяснить, почему я не могу этого делать.
— Навсегда — это долгий срок. Сначала я хочу закончить свою книгу.
— Книгу? — Я делаю вид, будто впервые слышу. Эдам приоткрывается еще чуть-чуть, избавляя меня от необходимости открываться ему.
Он кивает почти застенчиво:
— Это что-то вроде истории нашей школы.
После неловкой паузы, не дождавшись от меня ни звука, он продолжает, растягивая слова:
— Если точнее, это история самого здания, а не школы. Я и деревню Роклифф затрагиваю, события, которые там происходили. — Со своим акцентом он такой же чужой здесь, как и я. — Судя по всему, у деревушки весьма колоритное прошлое.
— Как это… колоритное? — У меня звенит в ушах.
Эдам пожимает плечами.
— У тебя время есть?
«Вся жизнь», — беззвучно отвечаю я.
Он подкатывает старинный шахматный столик и выдвигает ящик. Черные и белые резные фигуры кучей валяются на боку.
— Сыграем? — спрашивает он.
«А я уже в игре», — думаю я и согласно киваю.
Мое ожидание, мое детство растянулось на годы. Удивительно: разок бросишь взгляд на часы, выглянешь в окно, сбегаешь к почтовой доске — посмотреть, не пришпилено ли там письмо с твоим именем, а уж чуть не полжизни прошло.
Я привыкла к тому, что папы со мной нет. После того как он уехал, положив руку на плечо Патрисии, а жизнь — к ее ногам, он появлялся один или два раза. Не помню точно. Поначалу я расспрашивала о нем Патрисию, ей было известно больше, чем мне. Какое-то туманное выражение появлялось у нее на лице, когда она упоминала его имя. Уильям Фергус. Ей нравилось его так именовать, будто он гранд какой-нибудь. Уильям Фергус возил меня на своей машине в ресторан. Или Уильям Фергус купил мне шляпку. Уильям Фергус водил меня в кино. Уильям Фергус держал меня за руку.
А я с горечью думала, что Уильяму Фергусу плевать на родную дочь.
Вдобавок я прекрасно понимала, что значит «держал ее за руку». Телевизор в детдоме был, и мы видели, чем взрослые занимаются, подержавшись за руки. Когда я впервые догадалась, то убежала. Туфли, из которых я выросла, жутко жали, и только это, почище всякого наказания, не дало мне разреветься. Одного я не понимала: если папа и Патрисия подружились, если они теперь вместе, почему я должна жить здесь? Почему Патрисия не может стать мне новой мамой? Почему я не могу поехать домой?
А очень просто, наконец-то додумалась я, папа меня ненавидит, вот почему.
Дни оборачивались неделями, недели — месяцами, месяцы складывались в годы. Мы все ждали, все надеялись: вот что-то случится и нас спасут. Кое-кто из наших учился в школе. Я оказалась среди счастливчиков — мне было разрешено покидать Роклифф на шесть часов в день. До одиннадцати лет я ходила в начальную деревенскую школу вместе с несколькими мальчиками и девочками, которым воспитатели доверяли. Шаркая ногами, мы появлялись на школьном дворе, где нас все дразнили. У нас не было родителей. Дети, которых никто не любит, вечно чумазые, шпана. Домашние ребята не хотели сидеть с нами за одной партой или ходить за руку — им было противно. Потом мы подросли и стали ездить на автобусе в город, в среднюю школу. Над нами и здесь издевались, колотили, шпыняли. Мы отмалчивались и учились.
После школы или во время каникул мы слонялись по детскому дому. Мальчишки грызлись между собой, дрались, ломали все, что под руку подвернется, убегали и отчаянно вопили, когда их приволакивали назад. Девочки уходили в себя, становились тихими и замкнутыми. И все время что-нибудь мастерили. В ход шло все подряд: хлам, выуженный из мусорного бака, старая одежда на выброс. Мы плели коврики, клеили коробочки, вязали шнурки, кукол, браслеты и амулетики. Мы рисовали картинки и готовили подарки, притворяясь, будто для родителей. Только к тому времени мы уже забыли, что такое родители.
И мы постоянно ждали: что-то произойдет.
А потом появилась она. Девочка, которая изменила мою жизнь.
В доме было затишье. «Новых клиентов нет», — шутила мисс Мэддокс, когда неделями у нас ничего не происходило.
Но однажды я ненароком набрела на девочку — она обмочилась, стояла в луже и плакала. Кроме грязной майки на ней ничего не было, а на голой попке горел отпечаток взрослой пятерни.
Мне было почти тринадцать, а можно было дать года на два больше. Я выросла изо всех своих вещей, ростом была уже со взрослую женщину, а носила платья десятилетней девочки. Наткнувшись на нее, по ее несчастному выражению я поняла, что она приняла меня за воспитательницу — за одну из них. Ей, должно быть, казалось, что мне лет сто.
Она стояла в темном коридоре с сотней непонятных дверей и тянула ко мне ручки — чтобы я взяла ее. Отчаянная попытка хоть в ком-то найти любовь.
— Привет, — сказала я и присела перед ней.
Девочке было года три, не больше. Она робко обхватила меня за шею, пунцовое от долгого плача личико наморщилось. Ей хотелось ощутить тепло другого человека, убедиться, что она не одна. Эта малышка следовала велению своего инстинкта. Чтобы выжить, ей нужен был кто-то, кто станет ее любить.
— Как тебя зовут?
Она уткнулась мне в плечо, всхлипывая и икая при каждом вздохе.
— Бетси, — прошептала она.
В нос ударил омерзительный запах мочи.
— А я Эва. Ты новенькая?
Я ничего такого не слыхала, хотя уже достаточно прожила здесь и знала, как это бывает. Кто-нибудь углядит на аллее машину социального работника, и новость — еще кого-то привезли! — мгновенно облетит весь дом. Взбудораженная толпа соберется у высоких старинных дверей, прилипнет к окну, поджидая свежую «добычу». Потом заулюлюкают, засвистят противно, станут плясать вокруг новенького, дергать и пихать, пока у воспитателя не лопнет терпение и он всех не разгонит. А я всегда стояла в стороне, приглядываясь к новичку, а потом мчалась в спальню защищать свои пожитки.
Девочка лизнула меня в шею. Я отодвинула ее и придержала на расстоянии вытянутой руки.
— Тебя откуда привезли? — Я пододвинула ее к свету маленького окошка под потолком. Она не отвечала. — Ты умеешь разговаривать?
Из-под золотистых кудрей, грязных и наверняка полных вшей, на меня тупо смотрели огромные голубые глазищи. Потом она задрала подол майки и принялась его сосать. Она была голодная.