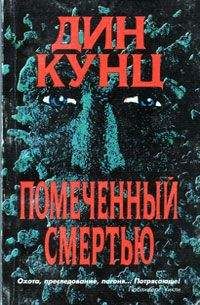Алекс откашлялся.
— Простите, капитан...
Экридж перестал хлопать кармашками бумажника:
— Да?
— Капитан, — Дойл старался говорить уверенно, — я не понимаю, отчего вы так заинтересовались моей персоной. Неужели это важнее, чем, гм, преследовать этого ненормального?
— Я уверен, что следует изучить жертву преступления так же тщательно, как и преступника, — ответил Экридж. И вновь занялся бумажником Дойла.
Все неправильно. Как же неудачно, черт возьми, все складывается, и почему так?
Алекс принялся рассматривать комнату, чтобы не чувствовать себя униженным, наблюдая за копом, перетряхивающим его бумажник. Стены были покрашены в казенный серый цвет, оживляли их только три вещи: портрет президента Соединенных Штатов размером с афишу, в рамке, такая же большая фотография Эдгара Гувера и карта здешних мест примерно два на два фута. Вдоль одной из стен вплотную к ней стояли стеллажи. Между ними — окно и кондиционер. Еще в комнате были три стула с прямыми спинками, стол, за которым сидел Экридж, и застекленный стенд, хранивший шелковый в натуральную величину звездно-полосатый флаг.
— Отказник? — спросил Экридж.
Алекс удивленно посмотрел на него:
— Что это?
— У вас тут карточка отказника от военной службы.
И зачем он вообще таскал ее с собой, эту бумажку? Его никто не обязывал это делать, никаких официальных требований к нему не предъявлялось, тем более теперь, когда ему было тридцать лет. Давным-давно уже прекратили производить набор в армию после двадцати шести. И вообще, набор в армию — все основательно подзабыли, что это такое. Но Алекс продолжал перекладывать карточку из старого бумажника в новый каждый раз, когда менял их. Зачем? Возможно, где-то в закоулках его сознания пряталась вера в то, что этот документ подтверждает его принципиальную позицию, подтверждает то, что его философия "непротивления" основана на убеждении, а не на трусости. А возможно, он просто поддался неврозу, свойственному большинству американцев: подчас они просто не в состоянии выбросить что-либо, имеющее хоть сколько-нибудь официальный вид. И неважно, какое на документе проставлено число, месяц, год.
— Я проходил альтернативную службу в госпитале для ветеранов, — сказал Дойл, хотя чувствовал, что ему вовсе не нужно оправдываться.
— А я оказался слишком молод для Кореи, а для Вьетнама слишком стар, — заметил Экридж. — Но я служил в действующей армии. Как раз между войнами.
Он протянул Алексу через стол водительское удостоверение и бумажник. Дойл положил их обратно в карман и попытался вновь вернуться к волновавшей его проблеме:
— Ну так вот, этот тип в "Шевроле"...
— Когда-нибудь пробовали марихуану? — неожиданно спросил Экридж.
"Спокойно, приятель, — сказал себе Алекс, — будь очень осторожным. И очень вежливым".
— Давно, — ответил он. Алекс уже не пытался направить разговор в нужное ему русло, поближе к фургону и психу в нем. Он понял, что по каким-то причинам Экриджа это совершенно не волновало.
— А сейчас покуриваете?
— Нет.
Экридж улыбнулся. Той самой фальшивой улыбкой.
— Ах да, вы же никогда не признаетесь в этом ворчливому старому болвану копу вроде меня, даже если курите "травку" семь дней в неделю.
— Я говорю правду, — ответил Алекс, чувствуя выступающий на лбу пот.
— Ну а еще что?
— В каком смысле?
Нагнувшись к Алексу через стол и понизив голос до мелодраматического шепота, Экридж пояснил:
— Барбитураты, амфетамины, ЛСД, кокаин...
— Наркотики — это для тех, кто не дорожит жизнью, — произнес Дойл. Он говорил искренне, хотя и понимал, что этот полицейский в его искренность не верит. — Так случилось, что я люблю жизнь и дорожу ею. И мне не нужны наркотики. Я вполне могу чувствовать себя счастливым без них.
Экридж пристально наблюдал за Алексом некоторое время, потом откинулся на спинку стула и скрестил свои тяжелые руки на груди:
— Хотите знать, почему я задаю все эти вопросы?
Алекс не ответил, так как не был уверен, хочет он узнать об этом или нет.
— Я вам объясню, — продолжал Экридж. — У меня есть две версии насчет вашей истории с человеком в фургоне. Первая — ничего этого вообще не было. Это ваши галлюцинации. Вот так. И это вполне возможно. Накачались чем-нибудь вроде ЛСД, вот и явилось вам страшное привидение.
Теперь оставалось только слушать. "Не спорь, Алекс. Пусть он говорит, а твоя задача — выбраться отсюда как можно скорее". Но все же он не смог удержаться и возразил:
— Ну а как же машина? Вмятины, вся краска слетела, кузов просто искорежен. Дверь не открывается, заклинило...
— Я и не говорю, что это тоже плод фантазии, — ответил ему Экридж, — но вы вполне могли зацепиться за подпорную стенку или за выступ скалы — да за что угодно.
— Спросите Колина.
— Мальчика в машине? Вашего, э-э-э, шурина?
— Да.
— Сколько ему лет?
— Одиннадцать.
Экридж отрицательно покачал головой:
— Он еще совсем мал, и я не имею права заставлять его давать показания. К тому же он, вероятнее всего, скажет то, что, по его мнению, вы хотите услышать.
У Алекса вдруг запершило в горле, стало больно глотать, и ему пришлось прокашляться.
— Обыщите нашу машину. В ней нет наркотиков.
— Хорошо, — сказал Экридж, произнося слова с подчеркнутой медлительностью, — вот моя вторая версия, и я изложу ее вам, пока вы окончательно не взбесились. Мне кажется, она получше первой. Догадываетесь, о чем я?
— Нет.
— Я полагаю, что вы, может быть, ехали по шоссе в этой вашей огромной черной машине, выпендриваясь и изображая из себя "короля дорог". И обогнали какого-нибудь местного паренька на старом, разваливающемся на части пикапе, на единственном автомобиле, который он смог себе позволить. — Экридж вновь улыбнулся, теперь уже искренне. — Кто знает, может, он узрел ваши длинные волосы, яркую, кричащую одежду и "утонченные" манеры и подумал: а почему это у вас такая огромная машина, а ему приходится платить за старую развалюху? И разумеется, чем больше он об этом думал, тем сильнее эта мысль изводила его. И вот он догнал вас и устроил небольшое "состязание" на шоссе. И плевать ему на его корыто. А вот вам — нет, было что терять, поэтому вы и беспокоитесь.
— Хорошо, но зачем в таком случае мне понадобилось сообщать вам столько подробностей о фургоне и его водителе? С какой стати я стал бы выдумывать этот рассказ о "гонках по пересеченной местности"? — спросил Дойл.
Он уже едва сдерживал ярость. Останавливало его только то, что этот тип с его взглядами на жизнь вполне мог отправить его за решетку за малейшее нарушение закона.
— Это несложно.
— Хотелось бы вас послушать.
Экридж встал из-за стола, отпихнув ногой стул, и подошел к стенду с флагом, сложив руки за спиной.
— Вы решили, что я не стану преследовать местного жителя, отдам, так сказать, предпочтение ему, а не субъекту вроде вас. Поэтому насочиняли разной ерунды, дабы вовлечь меня в дело. Раз уж я начну полное расследование, буду заполнять документы и протоколы, потом мне будет уже трудновато дать задний ход, когда всплывет правда.
— Это притянуто за уши, одно с другим совершенно не вяжется, — возразил Дойл. — И вы это прекрасно знаете.
— А для меня звучит вполне убедительно.
Алекс вскочил, сжав влажные ладони в кулаки. Раньше ему ничего не стоило справиться с таким вот приступом раздражения. Но теперь, после всех изменений, которые произошли с ним, особенно в течение последних двух дней, он не желал унижаться, поступаться своей гордостью.
— Итак, вы не будете нам помогать?
Теперь Экридж смотрел на Алекса с настоящей ненавистью. И впервые в его голосе зазвучала неприкрытая злоба:
— Я не из тех, кого ты в один прекрасный день можешь обозвать за глаза свиньей, поэтому катись куда подальше и проси там помощи.
— Я никогда не обзывал полицейских свиньями, — произнес Алекс, но Экридж уже не слушал его:
— Больше пятнадцати лет эта страна напоминала больного человека. Она блуждала в потемках и, как в горячечном бреду, натыкалась на все подряд, не понимая, где она, что с ней происходит и выживет ли она. Но сейчас она выздоровела и очищает себя от паразитов, которые сделали ее больной. И вскоре их, паразитов, не останется вообще.
— Понятно, — ответил Алекс, содрогаясь одновременно от страха и гнева.
— Она поднимется, уничтожит всех гадов и будет вновь здоровой, как была когда-то, — закончил Экридж, широко ухмыляясь и покачиваясь с каблука на носок. С заложенными за спину руками.
— Я вас прекрасно понимаю, — произнес Алекс. — Мне можно идти?
Экридж расхохотался резким, лающим смехом:
— Можно? Будьте добры, сделайте такое одолжение, убирайтесь.