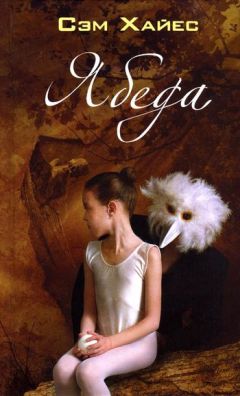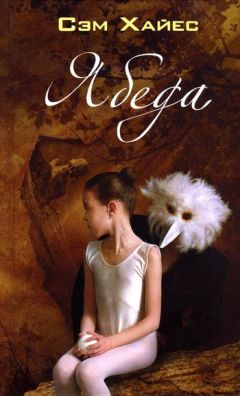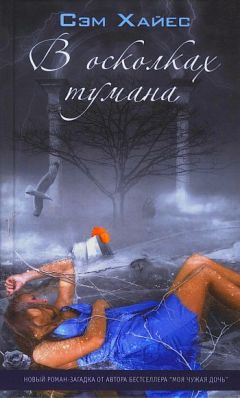Он подтаскивает еще одно кресло, ставит напротив. Уютный ужин наедине с собой закончен, но в душе я рада компании.
— Что все это значит? — Он тычет в остатки моего ужина, кивает на пылающий огонь. — И у кого тоже нет дома?
Краска заливает мне все лицо, а не только ту щеку, что ближе к огню.
— Я думала, ты в пивной, — увиливаю я от ответа.
— Предпочитаешь одиночество?
— Как хочешь, — пожимаю я плечами, мысленно умоляя: «Нет, пожалуйста, останься!» — и засовываю фотографию под себя.
— Симпатичный ребенок. Семейное фото? — спрашивает Эдам.
— Нет, подруга прислала. А тебе часто пишут из банановой страны?
Эдам фыркает:
— К сожалению, нет. В Австралии у меня никаких родственников не осталось. И вообще — нигде никого, если не считать бывшей жены, да и та, знай она мой адрес, скорей всего, послала бы мне гнилых бананов.
Мой черед смеяться.
— Можешь не объяснять. Она предпочитала бананы с мороженым, а ты их намазывал на хлеб с джемом.
— Вроде того. — Эдам постукивает по бутылке: — Не возражаешь, если я присоединюсь? — Минуту спустя он возвращается из кухни еще с одной бутылкой и стаканом.
Я стараюсь убедить себя, что все это совершенно безобидно, что я никого не предаю и ничем не рискую. Он всего-навсего коллега, даже не местный, так что риск минимален.
— Значит, нигде никаких родственников? — уточняю я. Если уж нам суждено провести этот вечер вдвоем, я желаю говорить исключительно о нем. — И кстати, ты еще не объяснил, почему вернулся из пивной.
— Нигде и никаких. Потому что у меня из-за тебя душа была не на месте. Удовлетворена? — Невинно распахнув хулиганистые глаза, Эдам разливает по стаканам вино и пододвигается ближе к огню, ко мне. — Холодновато сегодня.
— Совсем не обязательно беспокоиться обо мне, — говорю я и злюсь на себя за то, что мне это приятно. — Со мной все в порядке, просто последние недели выдались хлопотные.
Эдам устраивается поудобнее, сухощавое тело тянется к теплу, как растение к свету.
— За стенами Роклифф-Холла я официально считаюсь бездомным. — Он ворошит дрова в камине железной кочергой, и головешки рассыпаются углями, подбрасывает еще деревяшек, кверху взвивается столб искр.
— Ну и как ты себя ощущаешь? — Я снова накидываю кофту и натягиваю ее на колени.
— Свободным, — отвечает он. — Впервые в жизни я чувствую себя свободным.
— А когда был женат, ты чувствовал себя в ловушке?
Эдам колеблется: сказать, не сказать?
— Клаудия — красивая женщина, мечта любого мужчины. Но когда мы познакомились, нам было всего по девятнадцать, она только начала свою модельную карьеру, а я только приехал в Австралию. — Он качает головой, улыбаясь воспоминаниям. — Потом ее понесло по миру — Лондон, Нью-Йорк, Париж. Она стала довольно знаменитой, и через несколько лет, когда она вернулась в Австралию, денег у нее было больше, чем здравого смысла. Я к тому времени жил и работал в Сиднее, она меня разыскала, и пошло-поехало! Через полгода мы уже были женаты. — Эдам умолкает, втягивает носом хмельной запах вина. — Наши отношения, если честно, были основаны исключительно на похоти, а копни глубже, и стало бы ясно, что мы совершенно не подходим друг другу. — Судя по тому, что акцент становится заметнее, Эдам пытается скрыть смущение.
— Почему? — Я сцепляю пальцы в замок.
— Учитель истории в бесплатной школе и модель с мировым именем. Догадайся сама. — Он усмехается и засучивает рукава полосатой рубахи. — Думаю, ее забавляло таскать с собой на приемы учителя.
— Значит, между вами была пропасть. — Надеюсь, ответ правильный. — А теперь еще и океан.
— Клаудия вечно пропадала на всяких светских тусовках, вечно была озабочена собственной внешностью. Из студии бежала в ночной клуб, потом в оздоровительный центр, оттуда — опять в студию. Дошло до того, что мы с ней практически перестали видеться. — Эдам ждет от меня каких-то слов, но я помалкиваю, надеясь на продолжение. — Я любил ее, она любила меня, но стоило мне заикнуться о детях, как ее бросало в дрожь. — Он хмыкает. — А уж о доме, машине, собаке, об отпуске с палаткой где-нибудь в глубинке и думать было нечего. Клаудия не могла представить себе отдых вне стен пентхауса. В итоге я сам ушел от нее, так сказать, по доброте душевной. Никто не должен менять себя в угоду другому.
— Иногда это необходимо, — слышу я свой голос. — А ты, значит, мечтаешь о счастливой семье и обо всем, что к ней полагается? — Я грызу ноготь, не сводя глаз с Эдама.
Он пожимает плечами:
— Если хочешь — да. Разве не все мы, по большому счету, стремимся к этому?
— Все, кроме Клаудии? — Я смеюсь, чтобы скрыть грусть.
— А ты?
— Может быть, когда-нибудь, — поспешно отвечаю я. — Хотя мне стоит поторопиться, верно? — Ничего мне не удается скрыть своими шутками. — А скажи, преподавание в Англии сильно отличается от австралийского?
— Там больше говорят о проблемах аборигенов, здесь приходится нажимать на пуритан и роялистов, но я справляюсь. Учился я в Австралии, но изучал и европейскую историю. А ты была замужем?
Похоже, Эдам такой же мастер менять тему разговора, как и я.
— По-моему, все дело в том, как учить, а не чему учить. В конце концов, прочитать пару книжек любой может…
— Не уверен. — Эдам встает и облокачивается на каминную полку из толстой дубовой доски, греется.
— Я имела в виду в хорошем смысле. Ведь как учить бывает важнее, нежели чему.
Эдам оборачивается.
— Девочкам нравятся мои уроки.
— Немножко чересчур, похоже, — усмехаюсь я.
Эдам прячет лицо в руках.
— Не напоминай! Спасибо тебе, еще раз спасибо за то, что ты сделала. Сказать, что я тебе признателен, — ничего не сказать.
— Ну хватит уже благодарить, ей-богу. Забыли. Расскажи лучше о своем интернате. Он похож на Роклифф-Холл? — Как ни странно, когда я расспрашиваю Эдама о том мире, что за пределами моей запечатанной раковины, на душе становится легче.
— Ничего общего, небо и земля! Отвратное заведение в наигадостнейшей части Бирмингема. — Эдам снова усаживается. У него мужественное лицо, кудлатая шевелюра, обаятельная улыбка, и держится он мило, по-доброму.
— Признаться, я всегда думала, что интернаты для избранных и стоят бешеных денег. Если он был так уж плох, твои родители должны были пожаловаться.
— Фрэнки, это был не интернат. Это был детский дом. Меня отдали туда сразу после рождения, а потом то забирали, то снова возвращали. Родители были практически нищими. — На лице никаких эмоций. Эдам словно нацепил маску, только она норовит соскользнуть. — Какое-то время я жил с родителями, но по большей части — в детском доме. И совсем недолго в приемной семье.
— А где они сейчас, твои родители?
Он качает головой:
— Им было не до меня. Обычное дело — наркотики, криминал, насилие. У меня есть младшая сестренка, мне было уже четырнадцать, когда она родилась. Ее тоже отдали в детский дом, но в другой. Потом мне сообщили, что родители умерли, а связь с сестрой я потерял.
— Печальная история. — Я подливаю вина и придвигаю нарезанный сыр. Эдам берет ломтик, а я запихиваю в рот сразу два, чтобы не сорвалось с языка то, о чем потом пожалею.
— Теперь понимаешь, почему я начал с чистого листа на другом континенте? После детского дома пошел работать, пахал как вол и накопил на билет в Австралию. Мне повезло: я ходил в школу и получил аттестат, который и добыл мне место в педагогическом колледже.
Я киваю, раздумывая — зачем он вернулся в Англию? Спросить не успеваю: мы слышим пронзительный вопль.
— Что это?! — Эдам бросается к дверям, распахивает их.
Снова крик — и перед нами возникает бледная дрожащая фигурка в ночной рубашке.
— Лекси… — выдыхаю я.
Нина заглянула в окошко мастерской и, с трудом удерживая одной рукой поднос, открыла дверь.
— Ау! — негромко окликнула она.
Только бы Мик не заметил, что она рыдала.
Мик терпеть не может, когда кто-то неожиданно заходит и мешает работать, но ей необходимо увидеть его, хоть на несколько мгновений. И предлог вполне убедительный — принести обед, пока не пришла Тэсс.
Сосредоточенность Мика была видна в напряжении всех мышц, в сведенных плечах. Он нагнулся к холсту и положил на огромное полотно крошечный мазок белой краски.
— Искорка в глазах, — прошептала Нина. — Ты оживил ее.
Мик обернулся, вынул изо рта зажатую в зубах кисть и протяжно выдохнул, словно все утро удерживал дыхание.
— Хороша? — Он удовлетворенно хмыкнул.
На глаз упал темный завиток, и Нина невольно отметила ниточки седины. Она обожала смотреть, как работает муж — сосредоточенно, забывая обо всем. Вот и сейчас, только увидела его — и на душе стало легче, как она и надеялась.