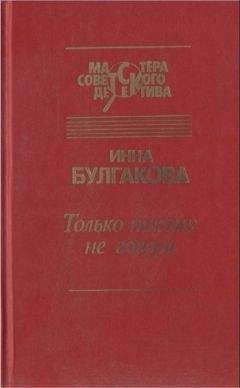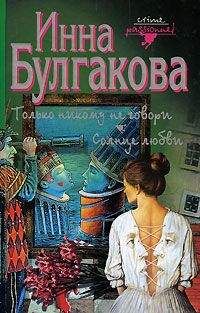— Но… кто?
— Вы были с Анютой на квартире Черкасских, она помнит, как вы до рассвета шагали взад-вперед по комнате. Петя в Ленинграде. Борис или актер.
— Иван Арсеньевич, — хрипло заговорил художник, — что-то мне от ваших сюрреалистических фантазий не по себе. Давайте уйдем отсюда.
Мы будто вырвались из-под темных столетних сводов на белый свет. Как переливалась, искрилась, вспыхивала солнечная рябь на воде, и густели жгучие небеса, и пылкий ветерок играл прозрачными березовыми светотенями. Но меня не отпускал дух сырой земли. Мы поравнялись с беседкой, я остановился, оглянулся на кресты и плиты, вдруг сказал:
— Все перебираю свои скудные запасы криминальных историй. В одном рассказе Честертона… не помню название… он с присущим ему блеском говорит… что-то вроде: «Где умный человек прячет камешек? На берегу моря. Где умный человек прячет лист? В лесу. А где умный человек прячет мертвое тело? Среди других мертвых тел», — я указал на старое кладбище. — Идеальное место для захоронения. И всего в километре от места убийства.
— Вы думаете, вам первому это пришло в голову? Следователь и без Честертона каждый камешек, каждый листик тут осмотрел с собакой. Исходили вдоль и поперек — никаких следов… — Лицо художника внезапно исказилось, и он закричал: — Что такое? Кто там?
Я обернулся на его взгляд: кусты сирени и шиповника шевелились на том берегу… кто-то шел?.. бежал?..
Дмитрий Алексеевич рванул мимо беседки к кустам, крича на ходу:
— Бегите в обход! Мы зажмем его с двух сторон в клещи!
Я помчался, не разбирая дороги, прижимая к груди здоровой рукой левую, в гипсе… Трава выше пояса… вот споткнулся о кочку… березы, камыши… вязкая топь… вырвался… сухой пригорок… дальше, быстрее… кладбищенская ограда… мне навстречу несется Дмитрий Алексеевич. Он отрицательно качнул головой, мгновенье мы стояли друг против друга, задыхаясь. Потом, не сговариваясь, побежали на ту сторону, где шевелились кусты.
Наверное, целый час мы прочесывали заросли по берегам пруда, кладбище, заглянули в рощу. Безрезультатно. Наш враг, если это был действительно враг, бесследно исчез.
Немного постояли под березами, приходя в себя от бешеной гонки.
— Иван Арсеньевич, — заговорил художник, — вы видели, как кусты шевелились?
— Видел.
— Точно видели?
— Да, видел.
— Слава Богу! А то я было подумал, что у меня от ваших кошмаров начались галлюцинации. Но вообще берегите себя.
— Вы тоже. Вы же теперь мой тайный свидетель. Займемся ловушкой?
22 июля, вторник.Благодаря стараниям Верочки в нашей больнице обо мне сложилась благородная сплетня: одинокий, всеми брошенный член Союза писателей уединяется в парке для сочинения романа. «Просто так в наши дни мужчин не бросают, — многозначительно прокомментировала эти сведения Ирина Евгеньевна. — Про что роман?» — «Про любовь», — ответила Верочка. «Пусть сочиняет, не возражаю, — вынесла резолюцию хирург. — Но помнит: на утренних и вечерних обходах присутствие строго обязательно (намек на вечер, проведенный мною на даче Черкасских, после чего в больнице случился легкий, освежающий скандал). Вообще пациент очень нервный».
Итак, пережив утренний обход и хлебнув «какавы», я надел свою колониальную рубашку и удалился в парк сочинять. Оттуда через березовую рощу вышел на шоссе и направился к станции.
Слева совхозное поле пшеницы, дрожащее марево над ним, летучие тени и веселый вороний грай — говорят, так воронье веселится к дождю. Справа березы с довольно густым подлеском боярышника, сирени, бересклета… Одним словом, если туда загнать машину, с проселка она видна не будет.
Полное безлюдье, покой и безмятежность; мысль о том, что кто-то крадется за мной в кустах, кажется нелепой. Тем не менее, дойдя до первых отрадненских домов, я свернул в переулок, постоял у колодца, покурил, понаблюдал. Мимо по шоссе прошли две женщины с бидонами, пронесся на велосипеде мальчик, прошмыгнул рыжий кот… Становилось жарко. Тенистыми, заросшими травой проулочками я добрался до станции, где взял билет до Казанского и обратно.
В железнодорожный ад раскаленного асфальта, железобетона и скрежета я окунулся как-то вдруг, без подготовки. Контрасты возбуждают, я был возбужден и нервно колготился в нервной толпе возле телефонов-автоматов. Ворвавшись наконец в кабинку-парилку, позвонил Борису… занято… Нике… занято… Я упорствовал. Первым сдался Борис.
— Узнал. Прямо родной голос. Что вы тут делаете?
— По издательским делам отпустили до завтра.
— Книжечку пробиваете?
— Роман. Про вечную любовь. Если пробью — весь гонорар вложу в машину или в драгоценности. Как вы посоветуете?
— А идите-ка вы…
— А я и иду. В милицию. Сдаваться: не справился.
— Что? Прямо сейчас?
— Нет, на днях. Вот Дмитрий Алексеевич восстановит свою «Любовь вечернюю», вернет мой блокнот с данными…
— И тут любовь! У вас, у поклонников чистой красоты, одно и то же…
— Как? Вы ничего не слышали? У Дмитрия Алексеевича мастерскую обчистили. Кто-то украл портрет Любови Андреевны с дочерьми, помните?
— Что? — математик долго молчал. — Эту эстетскую штучку? Что за ерунда!
— Художник убит. Работает на закате в нашей дворянской беседке над портретом. Его закаты вдохновляют…
— А зачем ему понадобился ваш блокнот?
— Не знаю. У него какая-то странная идея, он скрывает…
— Не понимаю, зачем вы ему дали свой блокнот!
— Чего это вы так разволновались? Вы вот лучше скажите мне — в последний раз спрашиваю, — на что вы истратили деньги и где провели ту ночь?
— Неужели в последний?
— Да. В следующий раз вас уже будет допрашивать следователь.
— Это наконец невыносимо! — крикнул математик и швырнул трубку.
Потом отозвался и актер:
— Иван Арсеньевич! Счастлив! Вы в Москве?
— По издательским делам отпустили до завтра.
— Ну так ко мне?
— Некогда.
— Как там наши лилии?
— Пока в полной тьме. Слышали, у Дмитрия Алексеевича мастерскую обчистили?
— Боже мой! И «Паучка» увели?
— Какого «Паучка»?
— Он для меня написал — прелесть!
— Нет, украли только «Любовь вечернюю».
— Какую?.. А-а! Жуткая история. Вам не страшно?
— Я-то что! Художник убит. Сейчас восстанавливает эту самую «Любовь» по памяти.
— Так он в Москве?
— Нет, у нас, в дворянской беседке работает на закате. Его закаты вдохновляют. А я сдаюсь, иду в милицию.
— Как? Зачем?
— Не справился.
— Не торопитесь, подумаем вместе! — Актер помолчал, потом спросил сипло (куда-то исчезла чарующая напевность): — А меня тоже будут вызывать, как вы думаете?
— А как вы думаете? (Молчание.) Николай Ильич, вы же сами пожелали присоединиться.
Опять молчание.
— Нет, это невыносимо! И когда вы собираетесь?
— На днях. Как только Дмитрий Алексеевич вернет мне мой блокнот с данными.
— Вы ему отдали блокнот? Зачем?
— На время. Ему нужно для каких-то там деталей. Не знаю. Он скрывает.
— Иван Арсеньевич, давайте подождем!
— Чего? Смерти свидетеля?
Итак, подозреваемые сидят по домам (ах, отрадненские закаты! Пурпур, золото, зелень и синева небес!). Пока сидят. Путь свободен! Вперед!
Я вошел в прохладный гулкий вестибюль, куда не входил уже одиннадцать лет. Старушка вахтерша с любопытством изучила писательское удостоверение, вздохнула отчего-то и пропустила. Молодость вдруг нахлынула на меня ожиданием и надеждой. Какие надежды, какие ожидания? Опомнись, все ушло, разве что поймаю преступника, да и то сомнительно! Одинокий и всеми брошенный подошел я к лифту, вознесся на незабвенный девятый этаж. Аудитория 929. Вертер бросился навстречу.
— Здравствуй, Петя! Как успехи?
— Какие успехи?
— Экзамен сдал?
— А-а… пустячок! Зарубежка. Эдгар По с Бодлером попались.
— О, декаданс, символизм, сфера подсознательного… и какие у тебя с ними отношения?
— На пять.
— Удачно. Пойдем уединимся.
Мы вышли на лестницу, на ту самую лестницу, где я когда-то уединялся с девочкой с романо-германского и где три года назад Вертер выпрашивал злосчастные экзаменационные билеты.
— Ну, за тобой действительно следят? Или воображение играет?
— Не то чтобы… так мне кажется. Во всяком случае, мне звонили по телефону.
— Когда?
— После того четверга, в пятницу, в двенадцать ночи. Все уже легли… я имею в виду жену и ее родителей. А я занимался. Вдруг звонок. Выхожу в коридор, говорю: «Алло!» Кто-то спрашивает: «Это Петя?»
— Кто спрашивает?
— Черт его знает! Тихо-тихо, почти шепотом. Должно быть, через платок, голос какой-то придушенный. Я говорю: «Петя». И он заявляет: «Что ты видел и слышал три года назад шестого июля на даче Черкасских?» Я говорю: «Ничего». А он опять: «Расскажи, что ты видел и слышал, — так будет для тебя спокойнее». Представляете?