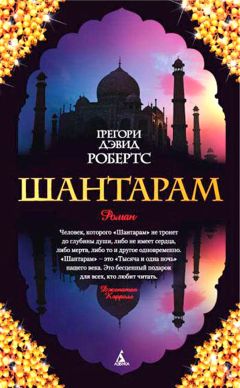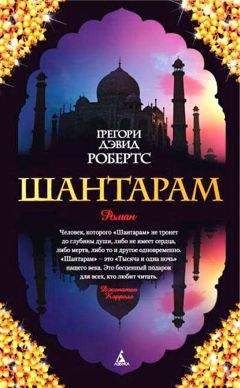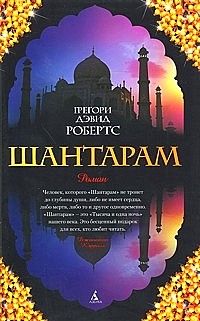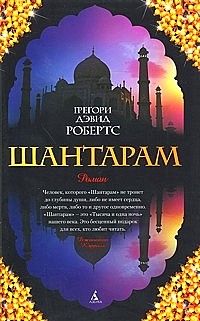Желудок мой заурчал, почувствовав аромат свежей пряной пищи, но Прабакер потащил меня на автобусный вокзал. Вокзал представлял собой большую утрамбованную площадку, на которой столпились десятки автобусов дальнего следования. Мы примерно час мотались от одного автобуса к другому, таская за собой наш объемистый багаж. Я не мог прочитать таблички на хинди и маратхи, прикрепленные на передних и боковых стенках автобусов, а Прабакер, естественно, мог, но почему-то считал необходимым выяснять у каждого водителя лично, куда он направляется.
— Разве ты не можешь просто прочитать, что написано на табличке? — не выдержал я наконец.
— Конечно, могу, Лин. На этом автобусе написано «Аурангабад», на том — «Аджанта», на том — «Чалисгаон», на том…
— Ну так почему же надо спрашивать водителя, куда он едет?
— Как почему? — изумленно воскликнул он. — Потому что многие надписи неправильные.
— Что значит «неправильные»?
Он положил свой багаж на землю и улыбнулся снисходительно и терпеливо.
— Понимашь, Лин, некоторые водители ведут свой автобус туда, куда никто не хочет ехать. Это маленькие деревушки, где мало жителей. Поэтому они вывешивают название какого-нибудь более популярного места.
— Ты хочешь сказать, что водитель вывешивает табличку с названием города, куда многие хотят попасть, а на самом деле повезет их совсем в другое место, куда никому не надо?
— Ну да, Лин, — просиял он.
— Но почему?
— Понимаешь, когда к нему сядут люди, которые хотят ехать в популярное место, он постарается уговорить их поехать вместо этого в непопулярное. У него такой бизнес. Это бизнес, Лин.
— Это черт знает что, а не бизнес, — буркнул я.
— Ты должен снизойти к ним симпатией, Лин, к этим водителям. Если они повесят правильную табличку, никто не подойдет к ним поговорить за весь день, и им будет очень одиноко.
— Ну, теперь все понятно, — саркастически бросил я. — Мы болтаемся тут от автобуса к автобусу для того, чтобы водителям не было скучно.
— Я же знал, Лин, что ты поймешь. У тебя очень доброе сердце в твоем туловище.
Наконец мы выбрали один из автобусов — вроде бы, направлявшийся в популярное место. Водитель и его помощник расспрашивали всех входящих, куда они едут, и лишь после этого впускали их, позади сажая тех, чей пункт назначения был дальше, остальных ближе к водителю. Проход между сиденьями быстро заполнялся детьми, домашними животными и багажом, который складывался до высоты наших плеч. В конце концов людям пришлось тесниться по трое на скамейках, предназначенных для двоих.
Я сидел у прохода и активно участвовал в воздушной транспортировке грузов поверх загроможденного прохода, передавая спереди назад все, что ехало далеко, — от багажа до детей. Молодой крестьянин, собравшийся было передать мне свои вещи, заколебался, увидев мои серые глаза, но когда я улыбнулся ему и покачал головой из стороны в сторону, он ухмыльнулся в ответ и доверил мне свой скарб. Вскоре все окружающие улыбались мне и качали головами, и я в ответ мотал и крутил своей, пока автобус не тронулся.
Объявление над головой водителя, написанное большими красными буквами на английском и маратхи, извещало всех, что в автобусе категорчески запрещается перевозить больше сорока восьми пассажиров. Но никого, похоже, не беспокоило, что в салон набилось человек семьдесят с двумя или тремя тоннами багажа. Старый «Бедфорд» тяжело покачивался на изношенных рессорах, как буксир в штормовую погоду. Его пол, потолок и стены угрожающе скрипели и стонали, а тормоза взвизгивали всякий раз, когда на них нажимала нога водителя. Тем не менее, выехав за город, он ухитрился увеличить скорость до восьмидесяти-девяноста километров в час. Дорога была узкая, с одной стороны она переходила в крутой откос, с другой постоянно попадались бредущие навстречу нам группы людей и животные; водитель же лихо кидал наш перегруженный ковчег в головокружительную атаку на каждый поворот. Понятно, что скучать по пути было некогда, не говоря уже о том, чтобы соснуть.
За три часа этой рискованной гонки мы взобрались на гребень горного кряжа, за которым простиралось обширное плато, часть Деканского плоскогорья, и спустились с другой стороны в плодородную долину. Возблагодарив бога за то, что он сохранил нам жизнь, и в полной мере оценив этот хрупкий дар, мы с Прабакером высадились возле какого-то потрепанного флажка, свисавшего с чахлого деревца. Место было глухое, пыльное и заброшенное. Но не прошло и часа, как появился другой автобус.
— Гора каун хайн? — поинтересовался водитель, когда мы вскарабкались на подножку. — Что это за белый?
— Маза митра ахей, — отвечал Прабакер, тщетно пытаясь скрыть свою гордость под напускным безразличием. — Это мой друг.
Разговор происходил на маратхи, языке штата Махараштра, столицей которого является Бомбей. В тот момент я немногое понял из этого разговора, но в течение следующих месяцев, проведенных в деревне, я так часто слышал те же самые вопросы и ответы, что выучил большинство их наизусть.
— Что он тут делает?
— Он едет ко мне в гости.
— Откуда он?
— Из Новой Зеландии.
— Из Новой Зеландии?
— Да. Это в Европе, — пояснил Прабакер.
— В этой Новой Зеландии много денег?
— Да, полно. Они там купаются в золоте.
— Он говорит на маратхи?
— Нет.
— А на хинди?
— Тоже нет. Только на английском.
— Только на английском?
— Да.
— Почему?
— В его стране не говорят на хинди.
— Они не умеют говорить на хинди?
— Нет.
— Ни на хинди, ни на маратхи?
— Нет. Только на английском.
— Господи помилуй! Вот идиоты несчастные.
— Да.
— Сколько ему лет?
— Тридцать.
— А выглядит старше.
— Они все так выглядят. Все европейцы на вид старше и сердитее, чем на самом деле. У белых всегда так.
— Он женат?
— Нет.
— Тридцать лет, и не женат? Что с ним такое?
— Он из Европы. Там многие женятся только в старости.
— Вот ненормальные.
— Да.
— А какая у него профессия?
— Он учитель.
— Учитель — это хорошо.
— Да.
— У него есть родители?
— Да.
— А где они?
— На его родине. В Новой Зеландии.
— А почему он не с ними?
— Он путешествует. Знакомится с миром.
— Зачем?
— Все европейцы так делают. Они немного работают, а потом немного ездят в одиночестве, без семьи, пока не состарятся. А тогда они женятся и становятся очень серьезными.
— Вот ненормальные.
— Да.
— Ему, наверно, одиноко без мамы с папой, без жены и детей.
— Да. Но европейцев это не огорчает. Они привыкли быть одинокими.
— Он большой и сильный.
— Да.
— Очень сильный.
— Да.
— Корми его как следует и не забывай давать побольше молока.
— Да.
— Буйволова молока.
— Ну да.
— И следи, чтобы он не научился каким-нибудь нехорошим словам. Не учи его ругательствам. Вокруг полно долбаных засранцев, которые захотят научить его всякому дерьму. Не давай ему водиться с этими долбоебами.
— Не дам.
— И не позволяй никому обмануть его. Он на вид не очень-то смышленый. Присматривай за ним.
— Он умнее, чем кажется, но я все равно буду присматривать за ним.
Никого из пассажиров не волновало, что водитель, вместо того, чтобы продолжить путь, вот уже минут десять болтает с Прабакером. Возможно, потому, что они говорили громко, и все до одного в автобусе могли их слышать. Мало того, водитель и по пути старался поставить всех встречных в известность о необычном пассажире. Завидев на дороге пешехода, он гудком привлекал его внимание и указывал ему пальцем на эту диковину, а затем замедлял ход, чтобы человек мог ее разглядеть и полностью удовлетворить свое любопытство.
Благодаря тому, что водитель делился удивительной новостью со всеми встречными, путь, который можно было проделать за час, занял целых два, и лишь к вечеру мы достигли пыльного проселка, ведущего к деревушке Сундер. Когда автобус, натужно стеная, укатил, наступила такая тишина, что слышно было ветерок, шелестевший в ушах подобно сонному шепоту ребенка. Весь последний час мы ехали по необъятным просторам, засаженным кукурузой, среди которой попадались рощи банановых деревьев; теперь же мы тащились пешком по грязи меж нескончаемых зарослей просяных культур. Растения уже поднялись во весь свой рост и были выше нашей головы, небо сжалось в узенькую полоску, а дорога впереди и позади нас терялась в сплошной золотисто-зеленой массе, так что мы пробирались словно по лабиринту, отгороженные этой живой стеной от остального мира.
Мне довольно долго не давало покоя какое-то смутное ощущение, никак не поддававшееся осмыслению. Наконец, до меня дошло. Нигде не было видно никаких столбов — ни телеграфных, ни высоковольтных, — даже вдали.