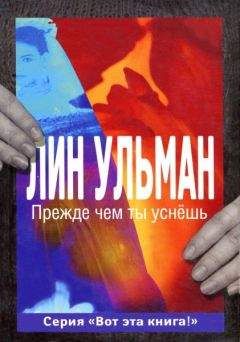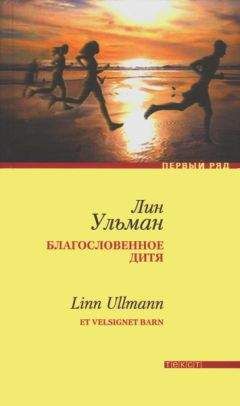— Но там сказали, что они не могут узнать номер, если абоненты прекратили разговор. Лично я считаю, что вам надо предпринять более решительные, особые меры, а не просто позвонить на станцию. Пока вы выясняете этот номер, они уже совершат убийство.
— Ладно, мы займемся этим, мадам, — вздохнул сержант Даффи. — Пусть это вас не волнует.
— Но меня это уже взволновало, — сказала она. — Вы обязаны сделать что-то, чтобы защитить этого человека. Я бы и сама чувствовала себя в большей безопасности, если бы вы прислали в наш район радиофицированный автомобиль.
Даффи снова вздохнул.
— Послушайте, вы знаете, на сколько километров протянулась Вторая авеню?
— Да, но…
— И сколько мостов в Манхэттене?
— Конечно, но я…
— А откуда вы знаете, что это убийство произойдет именно в вашем квартале, если оно вообще произойдет? Может быть, этот разговор был вообще не в Нью-Йорке. Может быть, вы включились в междугородную линию.
— Я не могу допустить мысли, чтобы вы даже не попытались помочь, — с горячностью воскликнула она. — Ведь вы находитесь там, чтобы охранять порядочных людей. Я сообщаю вам об убийстве, которое должно произойти, а вы разговариваете со мной так, словно я вас разыгрываю.
— Мне очень жаль, мадам, — не повышая голоса, ответил Даффи, — но в городе каждый день происходит много убийств. Если бы мы могли предотвратить их, мы бы сделали это. Но то, что вы мне сообщили, — это все очень туманно, понимаете? Это все, равно, что ничего не сообщить… Послушайте, — добавил он просветленно. — Может быть, вы просто слышали кусок радиопередачи? Может быть, вы как-то вклинились в какую-то детективную пьесу? А может быть, она доносилась до вас из другого дома, через открытое окно, а вам показалось, что вы слышите ее по телефону.
— Нет, — тихо сказала она. — Совсем нет. Я слышала все по телефону. Зачем вам надо все переворачивать?
— Хорошо, постараюсь помочь вам, если смогу, — заверил он. — А вам не кажется, что все это было подстроено нарочно? Может быть, кто-то хочет убить вас?
Она засмеялась, но смех ее был нервным.
— Меня? Что вы, конечно, нет. Это просто смехотворно. Я имею в виду, зачем кому-то меня убивать? Я не знаю в Нью-Йорке ни души. Я здесь всего несколько месяцев и не вижу никого, кроме прислуги и мужа.
— Что ж, тогда вам не о чем беспокоиться, — сухо сказал он. — А теперь прошу извинить, у меня много срочных дел. Спокойной ночи.
Она возмущенно бросила трубку на рычаг. Потом взяла с ночного столика маленький пузырек ароматической соли, вытащила пробку и поднесла ее к носу. Резкий запах принес ей некоторое облегчение. Она закрыла флакон и поставила его на стол. Затем снова откинулась на подушки, размышляя над тем, что же делать дальше. Ее гнев на пренебрежительное отношение полицейского к тому, что она узнала, несколько поутих. В конце концов, и впрямь маловероятно, чтобы этих убийц можно было найти по телефону. И все же полиция должна что-то предпринять. Могли бы, по крайней мере, объявить какую-то тревогу по радио, предупредить городскую полицию об этой опасности, грозящей где-то какой-то женщине…
Неожиданно для нее самой желание немедленно что-то предпринять стало притупляться. Не то, чтобы она вдруг захотела начисто выбросить всю эту историю из головы, просто она вновь с болью осознала, как она сейчас одинока. Со стороны Генри было совершенно непростительно вот так оставить ее. Если бы она только знала об этом заранее, она могла бы не отпускать прислугу.
Все вокруг теперь ее раздражало. Неярко освещенная комната, так богато, так прекрасно меблированная, превратилась в ненавистный кокон, из которого нельзя было выбраться. Множество дорогих склянок, флаконов и коробок, тускло отсвечивающих на туалетном столике у стены, бесцеремонно напоминали ей о том, что ее красота час от часу угасает. Качалка, кресла и обитые нарядной тканью скамеечки, инкрустированные будуарные столики, утопающие в мягком пушистом ковре, — все это как будто было расставлено здесь лишенным фантазии режиссером. Комната была совершенно безжизненной. Просто тюремная камера. Яркие ситцевые портьеры и бесшумно закрывающиеся гардины с успехом заменяли железную решетку.
Она ненавидела эту комнату. Она ненавидела свою неспособность справиться с одиночеством. Дотянувшись еще раз до телефона, она снова набрала номер дежурной.
— Дежурная! — сказала она. — Ради бога, наберите, пожалуйста, еще раз Маррей-Хилл, 3-00-93. Не могу представить, что его держит в конторе так долго.
Прерывистого сигнала на этот раз не было. Вместо него гудки, которые продолжались, пока дежурная не включилась, чтобы сказать:
— Не отвечает.
— Слышу, — резко сказала она. — Можете не говорить мне об этом, я слышу сама.
И повесила трубку.
Теперь она снова лежала на спине, глядя на полуоткрытую дверь и вслушиваясь в тишину с тем напряжением, с каким одинокие люди стараются извлечь из нее хоть какой-то звук, признак движения, знак, что и у пустоты есть пределы. Ничего не было слышно. Ее взгляд упал на ночной столик с беспорядочно расставленными лекарствами, часами, скомканным платком, а в центре всего этого хаоса стоял телефон. Она рассеянно протянула руку, открыла ящик в столе и достала гребень с драгоценными камнями и зеркальце. Расчесывая волосы, она быстро поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, изучая себя в зеркало. Удовлетворенная тем, что ей удалось восстановить элегантность прически, она достала из ящика тюбик губной помады и тщательно освежила темно-красный цвет крупных губ, пылавших на ее лице.
Генри не забывал оценить ее красоту, подумала она. В последнее время, правда, его лаконичные замечания на этот счет стали несколько механическими. Или это ей только теперь показалось, когда его так необъяснимо долго нет?
Из того же ящика ночного столика она взяла маленький блокнот в черной кожаной обложке и открыла его на букве Д. И в этот момент зазвонил телефон. Быстро, нетерпеливо она дотянулась до трубки и почти прокричала своим звонким голосом:
— Алло-оу?..
Радость ее бесследно ушла, когда она услышала в ответ:
— Говорит междугородная. Чикаго вызывает миссис Стивенсон.
— Да, — сказала она. — Миссис Стивенсон слушает. — И еще через несколько секунд. — Привет, папочка, как ты поживаешь?
— Отлично, — загудел Джим Котерелл. — Отлично, Леона. Ну, как моя девочка себя чувствует сегодня?
Всю жизнь ее возмущала эта манера отца реветь, как бык, когда он начинал свои телефонные разговоры, всегда перераставшие в монологи. Он не советовал, а указывал тому, с кем говорил, как надлежит поступать. В этих разговорах обязательно упоминались деловые успехи Джима Котерелла, или его громадный счет в банке, или то и другое…
Не будучи фармацевтом, он нашел золотую жилу в человеческой страсти к самоврачеванию. Фармацевты, говаривал он, когда их поблизости не было, а иногда и в их присутствии, фармацевты идут по пятаку за дюжину. А хорошие бизнесмены рождаются редко и ценятся на вес золота.
Тридцать лет назад Джим Котерелл уговорил владельца угловой аптеки уступить ему за бесценок патент безвредного, а в некоторых случаях достаточно эффективного средства от головной боли. Сегодня его таблетки, порошки и микстуры, производимые на десятках гигантских предприятий, низвергались могучим потоком во все уголки земного шара. Этой огромной империей он управлял железной рукой — той самой рукой, которая начинала дрожать, стоило только его дочери Леоне нахмурить брови.
Мать Леоны, умершая при родах, обладала редкой красотой и большим чувством собственного достоинства. Но она была не парой яростному демону. Ее смерть стала первым и самым крупным поражением Джима Котерелла. Эта смерть освободила его от всяких нежностей ко всем и всему, за исключением Леоны. Его дочь стала для него не столько предметом любви, сколько памятью о ней. Он заботился о Леоне точно так же, как заблудившийся и продрогший охотник печется о пламени разведенного им костра. И по мере того, как дочь взрослела, отец начал бояться — не того, что пламя поглотит его, а того, что оно потухнет. Вместе с красотой матери Леона унаследовала также ее гордость, странно смешанную с Отцовским упрямством. Шли годы, но это своеобразное зелье не воспитало в ней какую-то особенную силу характера. Зато она стала хитрой, расчетливой, всегда стремящейся все делать по-своему. При любых обстоятельствах и за чей бы то ни было счет.
По причинам, тщательно скрываемым в глубине его агрессивной натуры, Джим поощрял все крайности темперамента дочери. Ему доставляло какое-то патологическое удовольствие иметь некоего идола, которому он мог уничижительно поклоняться. Формально он оправдывал это поклонение слабым здоровьем дочери, из-за которого ее жизнь была якобы под угрозой. В этом отношении его опасения поддерживал и семейный врач. Искренне озадаченный вспышками раздражения Леоны, он рекомендовал Джиму вести политику умиротворения. Легкость, с которой Леона в детстве обращала воображаемые болезни в свой щит и меч, побудила ее использовать это оружие до тех пор, пока болезнь со всеми ее проявлениями не утвердилась окончательно в ее сознании. Воспоминания детства стерлись в глубинах памяти, на поверхность в моменты крайнего напряжения всплывали лишь физические симптомы. И теперь, когда ей было за тридцать, она окончательно уверовала, что жизнь ее полностью вверена капризам ее слабого сердца.