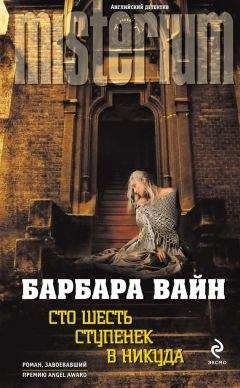Это был очень маленький участок зелени между тротуаром и глубокой выемкой перед окном цокольного этажа. Оба сада, перед домом и позади него, отличало одно обстоятельство — это были серые сады, с серыми цветами и листьями. В них росли цинерария и синеголовник, «кроличьи уши», шерстистая лаванда и карликовая серебристая лаванда, лихнис корончатый с похожими на фетр листьями, испанские артишоки, изящная артемизия, белокудренник и крестовник. Абсолютный профан в ботанике, я знала названия всех растений в саду Козетты. Мне о них рассказал садовник Джимми, радовавшийся хотя бы одному небезразличному человеку, и эти названия накрепко засели у меня в памяти. Интересно, неужели Джимми по-прежнему сюда приходит? Он говорил, что шерстистая лаванда — очень нежное растение, и без его ухода она погибнет. Мне показалось, растения прекрасно себя чувствуют, а если взять бледно-серые ирисы, то они цвели вовсю — их похожие на бумагу лепестки блестели в зеленоватом свете фонаря.
Не имея возможности увидеть сад позади дома, понимая, что не вынесу этого, я была уверена, что там все изменилось. Тот, к кому дом перешел после Козетты, когда я от него отказалась, должен был знать — ему, наверное, осторожно намекнули, и он решил принять факты и примириться с ними. Но затем неизбежно должно было возникнуть желание изменить сад, все переделать, возможно, посадить аккуратно постриженные прямоугольные кусты, остроконечные хвойные деревья, яркие цветы. И тогда в саду не осталось бы места для призраков, которые, как говорят, рождаются из энергии, оставшейся в том месте, где произошло какое-то ужасное событие.
Я пыталась увидеть что-нибудь между домами, заставить свой взгляд проникнуть сквозь кирпичную стену и высокую живую изгородь, черную, почти сплошную массу вечнозеленой листвы. Но если эвкалипт все еще там, его тонкие ветки с изящными, заостренными серыми листьями должны были подниматься выше падуба и лавра, потому что, как однажды сказал мне Джимми, эвкалипты вырастают очень быстро. Если дерево сохранилось, теперь оно почти достигло того высокого окна. Но его там нет, это невозможно, и, прежде чем отвести взгляд, я представила, как дерево рубят и оно падает, представила сильный лекарственный запах, который должен был исходить от его умирающих листьев и распиленного ствола.
На фасаде «Дома с лестницей» есть только два балкона, на тех этажах, где находилась гостиная и хозяйская спальня — копии балконов на доме Ланира, расширяющиеся книзу, похожие на корзины. Этот ученик Раскина не чурался смешения стилей.
Пока я стояла внизу, открылась центральная дверь на этаже, где раньше была гостиная, и на балкон вышел мужчина, чтобы внести в комнату растение в горшке. Он смотрел не на меня, а на растение и, возвращаясь, отодвинул штору, позволив мне бросить взгляд на освещенную желтым светом комнату — в основном на крошечный блестящий канделябр и темно-красную стену не более чем в десяти футах от окна, увешанную зеркалами и картинами в белых рамах. Я задохнулась, словно от удара в солнечное сплетение. Конечно, я понимала, что гостиную должны были разделить перегородкой, просто обязаны — она имела в глубину тридцать футов, и теперь в ней располагалась целая квартира. Штора вернулась на место, снова закрыв окно.
Внезапно в моем мозгу всплыла яркая картина, память о возвращении после долгой разлуки — вероятно, поездки в Торнхем, когда, преодолев первый лестничный пролет, я открыла дверь в гостиную и увидела сидящую за столом Козетту; ее голова тут же повернулась ко мне, лучезарная улыбка преобразила задумчивое лицо, и она встала, протягивая руки, чтобы принять меня в неизменно радушные объятия.
— Хорошо отдохнула, дорогая? Ты не представляешь, как мы по тебе скучали.
Из груды вещей, которыми завален стол, извлекается подарок в честь возвращения, тщательно и с любовью выбранный, какая-нибудь подушечка для булавок в форме клубники или каменные шарики. Подарки Козетта всегда заворачивала в красивую, как ткани Уильяма Морриса,[3] бумагу, завязывала шелковой ленточкой, а от соприкосновения с ее кожей и платьем на них оставался аромат духов…
Я стояла, крепко зажмурившись. Это произошло само собой, когда владелец квартиры на втором этаже случайно показал мне кусочек своей гостиной, и я представила Козетту там, где теперь была красная стена. Открыв глаза, я последний раз бросила взгляд на изменившийся, перестроенный, испорченный дом и отвернулась. Уже стемнело, и я пошла к Пембридж-Виллас, по какой-то непонятной причине запрещая себе оглядываться; из переулка вынырнуло такси, и я села в него. Откинулась на скользкую обивку сиденья и вдруг почувствовала себя уставшей и измученной. Может показаться, что я совсем забыла о Белл, однако воспоминания о Козетте и прочие чувства, которые вызвал у меня «Дом с лестницей», лишь временно вытеснили ее из моих мыслей. О чем я действительно забыла, так это о боли в ногах — и боль прошла, на неделю или две давая мне передышку от ужаса и тоски.
Теперь я думала о Белл уже в другом, более спокойном расположении духа. Возможно, это и к лучшему, что я ее упустила и мы не встретились. Я опять задала себе вопрос: видела ли она меня поверх людских голов в лифте? — и опять не пришла к какому-то определенному выводу. Убегала ли она от меня, или, не подозревая о моем присутствии, вышла из метро и пошла прямиком в один из магазинов на Квинсвей? Вполне возможно, и мне не давала покоя мысль, что Белл, выйдя из магазина, могла идти за мной, не зная, кто я такая. Или ей было все равно? Такой вариант тоже нельзя исключить.
Вполне возможно, Белл не хотела знать никого из прошлой жизни, собиралась начать все заново с новыми друзьями и новыми интересами, и доказательством тому мог служить факт (я считала это наиболее вероятным), что она обосновалась в Бэйсуотере или Паддингтоне, районах Лондона, в которых, как мне казалось, она никогда не жила.
В любом случае все это не имело никакого отношения к моей решимости найти Белл. Я выясню, где и как она живет, как себя теперь называет, и посмотрю на нее — даже если этим придется и ограничиться. Сердце у меня замирало, когда я думала о годах, которые Белл провела в тюрьме, — как мне казалось, потерянном времени и растраченной впустую молодости. А потом — точно так же, как я вспоминала Козетту за письменным столом в гостиной, всегда заваленном книгами и цветами, листами бумаги и принадлежностями для шитья, с телефоном, очками и бокалами, фотографиями, открытками и письмами в конвертах, — перед моим внутренним взором появилась Белл, почти такая, как при нашей первой встрече, когда она вошла в холл Торнхема и сообщила, что ее муж застрелился.
Я узнала в четырнадцать. Все правильно, мне следовало знать, но, наверное, все же не стоило так торопиться. Что такого могло произойти, подожди они еще четыре года? За это время я вряд ли вышла бы замуж или родила ребенка.
Именно так я говорила Белл, рассказывая эту историю. Больше никто не знает, ни Эльза не знает, ни даже мой бывший муж Робин. Я призналась во всем Белл в один из темных зимних дней в «Доме с лестницей»; мы сидели не наверху, в комнате с длинным окном, а на ступеньках, с бокалом вина в руке.
Нельзя сказать, что болезнь моей матери уже проявилась. Родители даже не были уверены, больна ли она — по крайней мере физически. Психические изменения — именно так описывают ее состояние книги — могли иметь множество причин и ни одной конкретной. Как бы то ни было, отец с матерью решили, что я должна узнать именно в четырнадцать, и мне сказали, хотя и не в день рождения, как случается с героями и героинями романов, которых по достижении определенного возраста посвящают в семейные ритуалы и тайны, а два месяца спустя, в один из дождливых дней. Наверное, родители понимали, что это напугает меня и сделает несчастной. Но знали ли они, каким это станет шоком? Неужели не осознавали, что я буду чувствовать себя такой же отделенной от остального человечества, словно на спине у меня горб, или я должна вырасти до семи футов ростом?
Я поняла тогда, почему была единственным ребенком, но не могла понять, почему вообще появилась на свет. Какое-то время я упрекала отца и мать за то, что они меня родили, за безответственность — ведь они все знали. И довольно долго отказывалась признавать их родителями, не желала иметь с ними ничего общего. Быстрое развитие болезни матери ничего не изменило. Самые безжалостные люди на свете — это подростки. Я отвернулась от родителей и от их тайны: от ее дефектных генов, от его внимательных глаз и тревожного ожидания симптомов, — и обратилась к тому, кто был добр и не заставлял меня страдать. Я обратилась к Козетте.
Разумеется, я знала Козетту всю свою жизнь. Она была замужем за двоюродным братом матери Дугласом Кингсли, и поскольку семья наша была невелика — что естественно, — те немногие, кто обосновался в Лондоне, тянулись друг к другу. Кроме того, они жили недалеко от нас, вернее, достаточно близко, если вы любите долгие пешие прогулки, как я в те далекие дни. Их дом находился на Велграт-авеню в Хэмпстеде, почти в Голдерс-Грин, и окнами выходил на пруды и Уилдвуд-роуд. Особняк тридцатых годов в тюдоровском стиле, слишком большой для двух человек, был построен так, чтобы напоминать бревенчатый деревенский дом. Когда Дугласу говорили, что Гарт-Мэнор велик для двух человек, он, нисколько не обижаясь, отвечал: «Размер дома человека не зависит от размера его семьи. Это вопрос статуса и положения в обществе. Дом отражает его достижения».