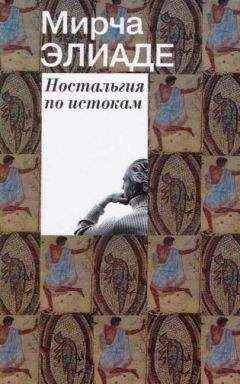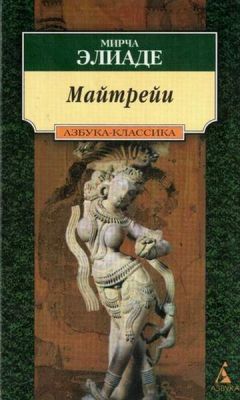Все комнаты, через которые инженер вел нас к выходу, были полны ее смеха.
Как-то раз в Тамлуке я пошел побродить по берегу реки. Тут на меня и нахлынуло ощущение моего одиночества. Помню, за два дня до этого была помолвка Норин, и мы кейфовали всю ночь: упились, натанцевались до упаду, перецеловали всех девушек, а на рассвете расселись по машинам и поехали на Озера. Мы планировали и «пижамную» вечеринку, как прошлой весной, в марте, когда мне пришлось решать свои разногласия с Эдди Хиггеригом посредством бокса. В Норин я тоже был влюблен одно время, как положено молодому человеку в двадцать четыре года, а вернее, я любил танцевать с ней в обнимку и целоваться. Больше ничего… И вот когда я медленно шел со своей трубкой и с хлыстом - солнце еще не раскалило пространство, и птицы еще гомонили в кустах, пахнущих корицей и ладаном,- я вдруг понял какую-то свою особость, я понял, что остался один и умру один. Мысль меня не опечалила; напротив, я был спокоен, ясен, примирен с лежащей вокруг равниной, и, если бы мне сказали, что жить мне осталось час, я бы не испытал сожалений. Я лег бы в траву, заложил руки за голову и, глядя в голубизну надземного океана, ждал бы, пока истекут Мои минуты, не считая их и не торопя, просто не ощущая. Не знаю, что за гордыня, естественная ли, чуждая ли человеческой природе, говорила тогда во мне. Мне все было по плечу - и ничего не надо. Вкус одиночества в этом волшебном краю вскружил мне голову. Я думал о Норин, о Гарольде, об остальных и спрашивал себя, как они попали в мою жизнь и как я затесался в их плоские и посредственные жизни. Я бродил долго, так и не сумев ответить.
На стройку я вернулся с утроенной жаждой одиночества, тишины и радовался, что у меня есть еще неделя палаточной жизни, без газет и без электричества. Меня встретил дежурный:
- Сахиб, вам телеграмма из Калькутты.
Я решил, что речь идет о приемке материалов, и не спешил ее вскрывать. А прочтя, был неприятно удивлен. Меня срочно вызывал Нарендра Сен. Выехать пришлось в тот же вечер, и я с печалью смотрел в окно вагона на бледные тени одиноких пальм, проступавшие сквозь испарения земли, на эту равнину, которая не далее как сегодня утром щедро приняла меня в лоно своей жизни без начала и без конца. Как я жалел тогда, что несвободен, что не могу остаться в своей палатке при газолиновой лампе и слушать хоры сверчков и цикад…
- Аллан, хорошие новости для тебя,- сказал мне инженер.- Нам нужен толковый человек в Ассаме, земляные работы и мосты на линии Лумдинг - Садийя. Я сразу подумал о тебе, и совет дал согласие, под мою ответственность. У тебя три дня на сборы и сдачу дел в Тамлуке…
Он смотрел на меня с непередаваемой доброжелательностью, и его некрасивое лицо светилось такой теплотой и любовью, что мне стало даже неловко. Позже я узнал, что он выдержал нешуточную битву на совете за мою кандидатуру, поскольку общество было свараджистским - стояло за устранение последних иностранных служащих и замену их национальными кадрами. Должность была ответственнее и платили лучше: от 250 до 400 рупий в месяц, такого жалованья я не получал даже в «Ноэль энд Ноэль». Конечно, работать предстояло в местности нездоровой и дикой, но моя страсть к джунглям, с которой я прибыл в Индию и которую все еще не удовлетворил в полной мере, оказалась решающей. Я принял предложение с благодарностью. Инженер положил руку мне на плечо.
- Ты нам очень дорог, Аллан, и мне, и моей супруге, мы часто о тебе думаем. Как жаль, что ты не понимаешь нашего языка…
Тогда я над всем этим не задумался. В голове мелькнул, правда, вопрос, почему Сен предпочел меня своим соотечественникам, но я ответил на него просто: из-за моих деловых качеств. Я всегда верил в конструктивность своего мышления, в свою энергию белого цивилизатора, в свою полезность для Индии.
Гарольд, узнав новость, настоял, чтобы мы отметили мое повышение небольшим банкетом в китайском квартале. Мы пригласили девушек и с шумным весельем погрузились в два такси. Выехав с Иарк-стрит на Чоуринги-роуд, мы решили устроить гонки, понукали своих шоферов (наш был отличный парень, сикх, он воевал во Франции и умел кричать: «Diable, diable! Vin rouge, vin blanc!» [8]), хлопали их по спинам, подзадоривая. Герти, сидевшая у меня на коленях, прижималась ко мне (она уже знала о весомой прибавке жалованья) и повторяла:
- Ой, вывалюсь! Ты не боишься, что я вывалюсь?
На перекрестке Дхурмтолла-стрит нам пришлось ждать, пока пройдет трамвай. Второе такси успело проскочить, мы были в неописуемой досаде, и тут напротив оказалась машина инженера. Я ошалел от неожиданности, увидев его вместе с женой и Майтрейи, и покраснел глупейшим образом, приветствуя их. Инженер презрительно улыбнулся, госпожа Сен взглянула на меня с ужасом и изумлением, я совершенно не знал, как к этому отнестись. Только Майтрейи подняла сложенные ладони ко лбу и ответила на мое приветствие с живым любопытством к компании, в которой я находился, и к девушке, которую держал в объятиях. Я тоже попытался изобразить это индийское приветствие, и тут до меня дошел весь идиотизм ситуации. Я пережил несколько пренеприятных мгновений, пока машины не тронулись. Обернувшись, я увидел бьющееся на ветру покрывало Майтрейи, цвета желтой черешни.
Моих товарищей скандализовали уважение и робость, с какими я приветствовал «черных».
- Не удивлюсь, если ты полезешь в Ганг на омовение,- съехидничала Герти.
- Как ты можешь поддерживать отношения с черной семьей? - возмущался Гарольд.
Зато шофер, наблюдавший эту сцену, был в восторге. Когда я расплачивался с ним у дверей ресторана, он сказал мне по-французски, чтобы не поняли другие:
- Тres bien, sahib, jeune fille а vous, bahut achhal [9].
На другой день утром, когда мы встретились с Нарендрой Сеном, он спросил меня самым натуральным тоном:
- С кем ты был вчера вечером, Аллан?
- Это моя компания, сэр,- ответил я с подчеркнутой вежливостью.
- А девушка на коленях? Очень красивая. Она тебе нравится?
- Слишком дешевый разряд, чтобы мне нравиться, мистер Сен. Но я должен был устроить приятелям farewell-party [10], а поскольку нас было много и мы хотели сэкономить на такси, то каждый посадил на колени по девушке. Дело житейское, сэр…
Он, несомненно, почувствовал перебор в моих словах и, похлопав меня по плечу, сказал:
- Перед тобой, Аллан, другая дорога. Жизнь, какую ведут здешние англичане, тебя недостойна. Мне кажется, тебе очень вредит то, что ты поселился в их пансионе, ты никогда не полюбишь Индию рядом с такими…
Меня удивил интерес, который инженер выказал к моей личной жизни. До сих пор он интересовался только, как мне здешняя пища, приличный ли у меня бой, не мучают ли меня жара и шум, люблю ли я теннис.
Надо было спешно приступать к работе, оформить множество бумаг, и на прощанье Сен пригласил меня отужинать с ним в Ротари-клубе. Я пытался было сослаться на несоответствующий костюм, на усталость, но он не принял никаких отговорок. Пришлось сдаться, а после великолепного спича, который инженер произнес перед залом, полным избранной и живо реагирующей публики, я почувствовал себя даже польщенным, что сижу за одним столом с таким выдающимся человеком.
Той же ночью я отбыл в Шиллонг, меня провожал один Гарольд с напутствием против змей, проказы, малярии и желудочных болезней.
Помни: бренди и виски с содовой! - прокричал он еще раз вслед поезду.
Сегодня я долго сидел над своим ассамским дневником, с трудом разбирая тогдашние каракули и переписывая их в тетрадь, начатую вместе с моим уходом из той жизни. В Ассаме у меня было мироощущение пионера джунглей, я считал, что моя работа по прокладке путепроводов принесет Индии гораздо больше пользы, чем дюжина книг о ней, и что вообще эта культура, столь же древняя, сколь новы наши труды, еще ждет своего живописателя. Я забрался в такую глубинку, где побывали пока что только этнографы, я узнавал племенную Индию, а не ту, что знал по романам и очеркам, и узнавал на месте, среди ядовитой флоры Ассама, под вечным дождем, во влажной и дурманящей жаре. Я нес новую жизнь этому краю, задушенному лианами, его людям, таким нерадостным и таким неискушенным. Я хотел приобщиться к их эстетике и морали, я собирал фольклор, фотографировал, записывал родословные. Чем глубже я уходил в первобытность, тем более странную гордость испытывал: в джунглях я был добр и справедлив, выдержан и невозмутим, не то, что в городе.
Но дожди… Что за ночи в борьбе с неврастенией под стук воды по крыше, от которого никуда не деться, что за дни, когда не имеющие подобия ливни лишь на несколько часов сменяются изморосью, мельчайшей и горячей, напоенной самыми изнурительными оранжерейными запахами,- едва удержишься, чтобы не подставить им лицо, не побежать, ловя их ноздрями, ртом, шалея… Вечера я проводил в своей комнате - оазисе цивилизации и прохлады, или прогуливался по веранде бунгало, пытаясь распробовать вкус табака (он отсыревал, несмотря на все предосторожности), и иногда чувствовал, что больше так не могу. Меня подмывало треснуть кулаком по перилам балюстрады, завыть и броситься сквозь дождь, сквозь темноту куда-то туда, где нет этого непоправимо прохудившегося неба, где трава не такая высокая, мокрая и мясистая. Я тосковал по цветам, по полям, похожим на тамлукские, по соленому бризу или по сухому ветру пустыни, потому что туманы и удушливые испарения растительности сводили меня с ума.