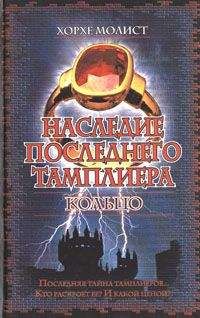Услышав о ее предполагаемой поездке в Барселону, я забыла о цели своего звонка. Я хотела убедить мать в необходимости отправить мне картину. И тогда меня осенило. Она только этого и ждала.
— Ах да, мама. Совсем забыла. Мне нужно, чтобы ты прислала картину на дереве.
— Вещь эта дорогая. Лучше, если я сама привезу ее.
— Но, мама! Опять? Мы уже говорили об этом.
— Мы с картиной прибудем как одна партия товаров. — В ее голосе звучало торжество.
Я лишилась дара речи. Мы обе понимали, что победила она. А я сдалась на милость победительницы.
— Ты не вправе удерживать картину, — жалобно пробормотала я. — Она принадлежит мне.
— Послушай, радость моя, — ласково заговорила мать. — Ты будешь довольна, что я приехала. Есть вещи, которые тебе следует знать.
Эта фраза вдохновила меня. Ясно! Мать скрывала от меня что-то о нашей жизни в Барселоне. Может, она знает, как найти сокровище? Или прольет свет на смерть Энрика? Конечно же, у меня накопилась куча вопросов к ней. Вот бы получить на них искренние ответы!
— Хорошо, — согласилась я. — Я закажу вам номер.
— Да, на двоих. Для нас с тобой.
— А папе?
— Папа остается в Нью-Йорке.
«Она приезжает без папы! — изумилась я. — Возможно, она расскажет мне больше, чем я надеялась услышать».
— Хочешь посмотреть картину, о которой я говорил? — спросил меня Ориоль. — Копию картины Девы Марии с кольцом.
Я встала в довольно сонливом состоянии, но, к счастью, на кухне уже был приготовлен кофе, и когда я наливала себе чашку, появился Ориоль. В то утро у него не было занятий в университете. Держался он очень мило. Я с радостью согласилась, но уговорила его сначала позавтракать со мной.
— Кольцо у Девы Марии не исчезнет, если она еще немного подождет.
Ориоль улыбнулся.
— В доме есть большой чердак, где хранят всякое старье, мебель и прочие вещи, принадлежавшие семейству Бонаплата. Кое-какие из этих вещей служили нескольким поколениям. — Из стоявших на полу картин без рам он извлек одну, маленькую. — Вот эта, — сказал Ориоль.
— Эта картина — точная копия моей! — воскликнула я.
— Копия твоей? — удивился он. — Ты уверена?
— Совершенно уверена.
Ориоль задумчиво поднес руку к подбородку, а я подняла картину, чтобы получше рассмотреть ее. Вес доски оказался примерно таким же, но она была толще, и отверстия, проделанные древесным жуком по бокам картины, казались нарисованными.
— Это копия, — подтвердил он. — Я внимательно рассматривал ее несколько раз, заинтересовавшись странным кольцом Девы Марии, и удостоверился в том, что, хотя на первый взгляд она кажется подлинной, на самом деле это современная подделка. Но странно в этой картине не только кольцо.
— А что еще?
— Расположение младенца. На картинах, написанных на досках, на полотне, и у статуй того времени он почти всегда сидит слева от Мадонны, по крайней мере в работах того времени. Несколько позднее художники отступили от такого композиционного однообразия, и младенца стали изображать иначе: он играет птичками и даже с короной Мадонны, когда ее изображают царицей. Но почти всегда он слева и лишь в редких случаях справа. — Я задумалась. Мне никогда и в голову не приходило, что в одной картине столько необычного. Однако художник свободен. — Удивительно, — проговорил Ориоль, глядя на Мадонну.
— Что именно?
— То, что у Энрика была копия. Видимо, он заказал ее перед тем, как отправить тебе оригинал.
— Но зачем ему понадобилась копия? Энрику так нравилась эта картина? — Я поставила картину на ветхий туалетный столик и поднесла мое кольцо к кольцу Девы Марии. Кольца отличались только размером.
— И раз уж она так ему нравилась, почему он не повесил ее в одной из комнат своего дома? Зачем спрятал?
— Меня всегда привлекало старое, — заговорил Ориоль, не ответив на мой вопрос или не услышав его. Он, казалось, полностью ушел в свои мысли, в загадки, связанные с картиной. — И мне, еще в детстве, нравилось забираться сюда, дышать пылью, передвигать вещи, и я знал их все. Эти предметы домашнего обихода моей семьи отец мог бы продать в своем магазине, но делать этого не хотел. И сейчас я вспоминаю об этой картине что-то такое, на что раньше не обращал внимания, но что, возможно, имеет значение.
— Что же это?
— Я нашел ее в то время, когда умер мой отец. До этого картины здесь не было. Я очень хорошо помню ее. Она стояла среди других картин, но ее не покрывала пыль.
— Думаешь, она имеет отношение к смерти твоего отца?
— Мать рассказала мне историю картин на дереве, сообщила о предполагаемом втором завещании и о сокровище. Но я никогда не думал, что эта картина связана со всем этим. — Помолчав, Ориоль посмотрел на меня своими синими глазами. — Но совпадений слишком много, и я все больше убеждаюсь в том, что это звенья одной цепи: картина на дереве, кольцо, сокровище и смерть отца.
Поняв, что Ориолю хочется выговориться, я предложила выпить еще по чашечке кофе — на этот раз за столиком в саду, в тени деревьев.
— Почему он убил себя? — спросила я, как только мы сели.
— Пока не знаю. — Ориоль обвел взглядом город, смутно различимый на горизонте. Я догадалась, что он задавал себе этот вопрос постоянно, всегда испытывая от этого душевную боль. — Мать рассказывала мне, что у отца были проблемы с конкурентами по бизнесу, членами международной мафии, торговавшей антикварными предметами искусства. Порой мне хочется думать, что он не покончил с собой, а был убит. Мысль, что он предпочел отказаться от борьбы, уйти, оставить меня, причиняет мне боль. — Его глаза увлажнились. — Уверен, с любой проблемой можно справиться, не стреляя себе в рот. Смерть отца оставила невосполнимую пустоту в моей жизни, я все еще переживаю ее, она до сих пор причиняет мне боль.
— Мне очень жаль, — промолвила я.
— Говорят, отец убил четверых из этих мафиози, — добавил Ориоль. — Но так ничего и не было доказано.
— Думаешь, это сделал он?
— Да.
— Но почему? Почему такой добрый человек пошел на преступление?
— Я могу передать тебе лишь то, что рассказывала мне мать. Они спорили по поводу деревянных картин, подозревали, что в них содержится послание, ключ к чему-то неизмеримо более дорогому — к сокровищу тамплиеров. Манускрипты Арнау д'Эстопиньи, так же как переводы более старинных рукописей, равно как и записи устных преданий, подтверждают это. И в самом деле, там, под слоем краски, содержится послание, хотя неполное и непонятное нам. Уверен, эти торговцы древностями знали о его существовании, хотели купить триптих у отца, но он отказался продавать, и они прибегли к запугиванию. У моего отца был один компаньон или друг, — тут Ориоль сделал многозначительную паузу, — его любовник. Те, другие, избили его. Полагаю, так они пытались запугать Энрика. Точно известно лишь то, что либо преднамеренно, либо случайно они этого компаньона убили. Мать говорит, что именно тогда начались эти ночные телефонные звонки. Они угрожали. Не только отцу, но и нам.
— И твой отец убил их?
— Похоже на то. Он не хотел отдавать им триптих. Я также не знаю, хотел ли он защитить свою семью или отомстить за друга. Ты слышала что-нибудь об Эпаминонде?
— Это о свинке [8], что ли? — пошутила я, пытаясь смягчить драматизм нашей беседы. Это имя носил греческий герой, и только.
— Об Эпаминонде, фиванском вожде, — ответил Ориоль, улыбнувшись. — Эта история и ее действующее лицо захватили воображение отца, она стала его любимым историческим примером, который он неоднократно приводил мне. Эпаминонд был военачальником и, помимо всего прочего, отличался высокой культурой. Его всегда окружали философы, поэты, музыканты и ученые. И это восхищало моего отца. В четвертом веке до нашей эры Спарта утвердила гегемонию над Грецией, ее воины в античном мире считались лучшими, и ни один другой город-государство не мог противостоять им. Но Фивы восстали, и когда могучая спартанская армия значительно превосходящими силами обрушилась на этот город, Эпаминонд и его священная фаланга нанесли ей одно за другим несколько поражений.
— А что это за «священная фаланга»?
— Священная фаланга была главной ударной силой фиванского войска, элитным формированием примерно из трехсот знатных молодых людей. Разбитые на пары, они клялись умереть, но не оставить в беде товарища. Именно такая отчаянная борьба за друга, это высшее проявление преданности, делала их непобедимыми.
— Ах! — воскликнула я. Эти слова кое-что прояснили для меня. Я знала, что моральный кодекс Древней Греции допускал однополую любовь и бисексуальность среди мужчин.
— То же самое практиковалось и среди тамплиеров. Когда ситуация достигала критической точки, когда враг превосходил их своей численностью, они сражались попарно и никогда не бросали товарища. Ни живого, ни мертвого. Тамплиеры не сдавались. Это видно на одной из печаток тамплиеров — на ней изображены два воина, скачущих на одном боевом коне. Этот образ не соответствовал действительности, но был символом. Тамплиеры не имели недостатка в лошадях: каждый рыцарь, согласно уставу ордена, располагал двумя хорошими конями… Образ на печатке символизировал пару воинов, принявших присягу.