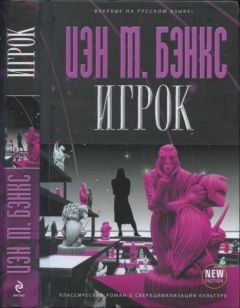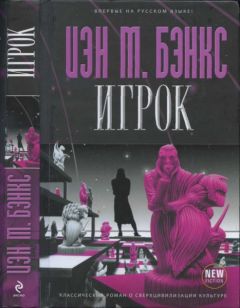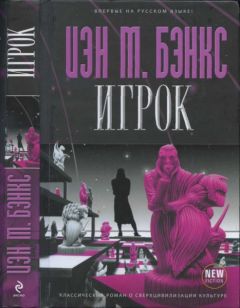Ах, сколько же их было, ушедших покорно, бессильно! «Теперь и я уже мертва», — подумала она. Ну что ж: чему быть, того не миновать!
Она взглянула ему в глаза, уронила с одной стороны смычок, с другой осторожно опустила на ковер виолончель и сложила руки на коленях.
— Вы американец, — сказала она.
Никакой реакции. Застигнутый светом собеседник оставался неподвижен, как фотографический снимок.
— Вы здесь ради самолета и конгрессменов. Я никак не могла понять, зачем венсеристам понадобилось сбивать этот самолет; это же безумие, весь мир их осудит. Это даст американскому флоту повод для ответных действий, направить против венсеристов морскую пехоту. Им самим от этого не будет никакой пользы. А как для вас?… Для ЦРУ?… Для вас такая жертва была бы оправданной.
Ну вот, все сказано. Когда она произносила эти слова, у нее все пересохло во рту, но, высказанные, они распустились в холодном дымном воздухе каюты, как цветы.
— Вы сумели всех нас одурачить, — добавила она, еще пытаясь спасти остальных. — Никто не мог и представить себе, что вы собьете собственный самолет. Вы одурачили Стива Оррика — молодого человека, которого ваши люди закидали гранатами.
— О да, жаль, конечно. — Белобрысый, казалось, был искренне огорчен. — Парнишка подавал надежды; он считал, что его поступок принесет пользу Америке. Не его вина, что так вышло. — Jefe пожал плечами, они, как огромная волна, поднялись и опустились. — Непредвиденная случайность. Всего не предусмотришь.
— А как же люди на самолете?
Он долго глядел на нее, потом медленно кивнул.
— Что ж, мисс Онода, — сказал он, проведя рукою с зажатой сигарой по коротко остриженным волосам, массируя череп, — существует давняя и почтенная традиция сбивать гражданские самолеты. Взять хоть Израиль в… в начале семидесятых, насколько я помню; этот египетский самолет над Синаем. «Кей-эй-эл ноль-ноль-семь» завалили русские над Сахалином, а мы сбили аэробус над Персидским заливом в восемьдесят восьмом. Во время натовских учений, тоже в семидесятых, случайно подстрелили итальянский лайнер — скорее всего, натовской же ракетой… ну, не говоря уж о бомбах, подложенных террористами. — Он пожал плечами. — Бывает, ничего не поделаешь.
Хисако опять опустила глаза.
— Однажды я видела плакат, по телевизору, — сказала она, — передача была из Англии много лет назад, снимали за оградой американской ракетной базы. На плакате было написано: «Заберите у мальчиков эти игрушки».
Он засмеялся:
— Так вот как вы себе это представляете, мисс Онода? Во всем виноваты мужчины? Так просто?
Она пожала плечами:
— К слову вспомнилось. Он снова рассмеялся.
— Черт возьми! Надеюсь, мисс Онода, мы еще пробудем здесь какое-то время; хотелось бы с вами еще поговорить. — Он погладил пистолет, стряхнул сигару о край пепельницы, но пепел так и не упал. — И надеюсь, вы сыграете для меня еще раз.
Она на мгновение задумалась, потом наклонилась, подняла с ковра смычок, взяла его обеими руками за концы и (думая: «Это глупо! Зачем я это делаю?») переломила пополам. Дерево раскололось с треском, напоминающим ружейный выстрел. Конский волос продолжал соединять обломки.
Она швырнула ему сломанный смычок через стол. Он скользнул по столу и остановился между потухшими лампами, стукнувшись о пистолет и пепельницу, над которыми уже нависли его руки.
Несколько мгновений он смотрел на сломанный смычок, потом медленно взял его рукой, которая в первый миг потянулась за кольтом, и, подняв за обломанный конец, покачал в воздухе другим, повисшим на конском волосе. — Хм-м-м, — сказал он.
Дверь у нее за спиной открылась. Вошел один из бойцов. Бросив в ее сторону мимолетный взгляд, он поспешил к дальнему концу стола, затем наклонился и начал что-то говорить белокурому начальнику. Она уловила вполне достаточно: aeroplano и тапапа[41].
Он встал и взял со стола кольт.
Она смотрела на пистолет. «Я не знаю, — сказала она самой себе совершенно спокойно, — как мне приготовиться? Как вообще к этому готовятся? Когда это произойдет, ты все равно уже ничего не узнаешь. Спросить предков».
Белокурый jefe, высокий, почти двухметрового роста, шепнул что-то солдату, который принес ему сообщение. Шум, доходящий до комнаты, изменился, усилился, снова послышалось гудение. Лампочки на столе включились, выключились, затем включились снова, брызнув ослепительным светом, разговаривающие мужчины превратились для нее в два силуэта. Она подождала, прислушиваясь, о чем еще они будут шептаться; она упустила возможность захватить их врасплох в тот момент, когда неожиданно включился свет. Как всегда, момент был упущен.
Боевик кивнул и полез в карман. Он подошел к ней сзади, в то время как jefe улыбался свысока, попыхивая сигарой. Он взял футляр от виолончели, который стоял прислоненный к одной из переборок.
Боец за ее спиной взял ее запястья, надел на них что-то маленькое и жесткое и туго затянул.
Белобрысый поднял с пола виолончель и бережно уложил в футляр.
— Отправьте мисс Онода обратно на ее судно, понятно? — сказал он.
Боец рывком поднял ее на ноги. Jefe быстро кивнул белокурым ежиком.
— Дендридж, — сказал он ей, — Эрл Дендридж. — Он вручил футляр с виолончелью боевику. — Был очень рад познакомиться с вами, мисс Онода. Доброго вам пути и благополучного возвращения.
Она убила человека, это случилось в аэропорту.
После того как она потерпела фиаско с американским турне, а затем несколько дней проплакала дома у матери, не выходя на улицу, не пожелав даже встретиться ни с кем из старых друзей, она уехала обратно в Токио, сняла со счета свои сбережения и, решив устроить себе каникулы, отправилась путешествовать по всей стране на автобусах, поездах или паромах, останавливаясь по возможности в рёканах[42]. Странствия подействовали на нее успокоительно; тут, на земле, все утешало, потому что все обладало массой и текстурой, все мерилось простой мерой, расстоянием от точки до точки. Размеренный и спокойный уклад японских гостиниц, где все шло по заведенному веками порядку, подарил ей умиротворение.
Тело упало на грязную затоптанную траву, глаза все еще смотрели удивленно, в то время как ноги судорожно дергались и звенел пронзительный крик, заглушаемый ревом приземляющегося реактивного самолета. Его ноги дернулись в последний раз.
В Киото она поехала на Синкансэн[43], наблюдая, как море и земля со свистом проносятся мимо пулей несущегося на юго-запад по стальным рельсам поезда. Она побывала в этом древнем городе как туристка, неспешно бродила по запутанным улочкам, посещала храмы и усыпальницы. В горах, у храма Нандзэндзи[44], всласть посидела у водопада, к которому ее вывел сложенный из красного кирпича акведук. В Киёмид-зу[45] полюбовалась видом с деревянной веранды на вершине утеса и так долго простояла у перил, глядя на раскинувшийся внизу простор, что обеспокоенный экскурсовод храма подошел к ней и спросил, все ли в порядке. Она очень смутилась и быстро ушла. Она съездила в Кинкакудзи[46], как затем, чтобы увидеть источник вдохновения для «Золотого храма» Мисимы, так и ради самого храма. Рёандзи[47] показался ей слишком шумным и многолюдным; она уехала, так и не посетив знаменитый сад камней. Тодайдзи[48] Главная достопримечательность — 16-метровая бронзовая статуя Будды Вайрочана (Будда Великое Солнце) подавил ее своей монументальностью; не дойдя до него, она повернула обратно, чувствуя себя слабой и глупой. Вместо осмотра она купила почтовую открытку с изображением огромного бронзового Будды и послала ее матери.
Она ткнула его в горло напряженными пальцами, поддавшись внезапному приступу безумной, нечеловеческой ярости; она обрушилась на него, как таран, вложив в этот рывок всю силу своей фрустрации. Он выронил дубинку. Его глаза побелели.
В Тобе она наблюдала за ныряльщицами. Они все еще иногда ныряли за жемчугом, хотя чаще добывали со дна морские водоросли. Искусственно выращенный жемчуг оказался дешевле и проще в добыче. Она провела на скалах целый день, наблюдая, как женщины в темных костюмах поднимаются на поверхность со своими корзинками, затем вновь ныряют, оставаясь под водой несколько минут. Всплывая на поверхность, они издавали странный свистящий звук, тональность которого она, сколько ни вслушивалась, никак не могла определить.
Он боролся; защитные доспехи покрывали его тело жесткой броней, а маска противогаза на лице делала похожим на насекомое. Их окутывали клубы оранжевого дыма. Обмотанная вокруг рта мокрая тряпка лучше защищала ее от дыма, чем от слезоточивого газа. Впереди, метрах в десяти отсюда, по студенческим головам мерно молотили, словно цепами, полицейские дубинки. Под напором орущей, спрессованной толпы они не удержались на ногах и упали оба на колени. Сквозь одежду она чувствовала влажность земли. Полицейский опустил руку вниз. Она подумала, что он хочет опереться, но он нащупывал на земле дубинку. Он размахнулся и ударил; защитный шлем выдержал удар, она упала на мокрую траву; тут кто-то наступил ей на руку, и пальцы пронзила острая боль. Снова замах дубинки — но она увернулась, и дубинка ударилась о землю. Голова гудела от боли, отдавленная рука горячо пульсировала; эти ощущения переполняли ее, затмевали прочие чувства. Задыхаясь от ярости, она приподнялась и сквозь слезы и клубящийся оранжевый дым увидела открытое горло полицейского, вновь замахнувшегося на нее дубинкой.