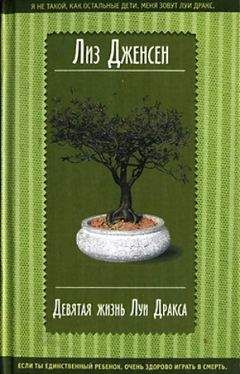– Суицид? – наконец выдавил я.
– Не знаю, – ответил Наварра. – Пока никто не знает.
Полицейский участок Лайрака – маленькое сонное царство: на доске объявлений под сквозняком шевелятся многочисленные памятки, повсюду – разруха под контролем. Наварра провел меня в комнату для допросов и сухим официальным тоном сообщил заключение графолога: письма были написаны левой рукой, хотя автор правша.
– К сожалению, кассеты с записями, относящимися к данному периоду времени, исчезли, – медленно проговорил Наварра. Затем вздохнул и тихо прибавил: – Доктор Даннаше, вам стоит переговорить со своим адвокатом либо как-то постараться найти эти кассеты.
Я чувствовал, что Наварра хочет мне помочь, но я не знал, как ему это позволить; каковы здесь границы дозволенного? Может, выложить всю правду? Мол, да, это я взял кассеты, потому что достоверно знал, кем написаны письма. Но писал я их во сне, подчиняясь Луи. Перес подтвердит мои слова, он обещал; но тогда он был нетрезв, да и помнит ли он о нашем разговоре? Может, лучше ничего не говорить и вызвать адвоката? Пока я мучился сомнениями, Наварра, вздохнув, предложил мне побыть одному и все хорошенько обдумать, а затем ушел. Потом я услышал, как лает в коридоре собака. Я подошел к окошку и увидел Натали с Жожо; Натали висла на локте женщины-полицейского. Натали недавно плакала и выглядела измученной. Я вспомнил, как ее хрупкое тельце прижималось ко мне, как я чувствовал каждую косточку, и у меня комок подкатил к горлу. А потом внезапно – обжигающие слезы. Мне хотелось окликнуть Натали, но я знал, что нельзя. Да и что я ей скажу? Ей наверняка уже сообщили о смерти Пьера. И сообщили, что письма написал я. По-видимому, уже спросили, не желает ли она подать на меня в суд. Видимо, Натали считает, что я чокнутый. Если только, как и Перес, не догадывается, что через меня говорит Луи. Она должна поверить. Мне кажется, мой ребенок – он вроде ангела. Она хотя бы понимает, что я люблю ее? Неужели не чувствует?
Луи Дракс – всего лишь очередной медицинский случай, так к нему и относись, – вот что советовал мне Мёнье.
Но я не смог. И тут меня как громом поразило. Может, Филипп разглядел в Луи нечто странное – потому и предупреждал меня? Я-то заподозрил, что он влюблен в Натали. Но, быть может, есть другое объяснение? Я должен с ним поговорить.
В комнату для допросов влетел Ги Воден. Покровительственно возложил руку мне на плечо и объявил:
– Тебе нужно отдохнуть. Я только что говорил с Наваррой. Ты уж прости, Паскаль, я никак не думал, что ты настолько переживаешь. К тому же Софи уехала в Монпелье…
Ги мог и не говорить, что, с его точки зрения, у меня нервный срыв.
– Это совсем не то, что ты думаешь! – возразил я. Но я знал, что это безнадежно.
– Знаю, знаю. Наварра мне рассказал, что ты лунатик. Ты уж прости, но что-то не очень верится. – Воден горько вздохнул. – Ты замечательный врач, но тебя явно занесло. На редкость непрофессионально. Знаешь, у меня сейчас завал. Поболтать не смогу. Но воспользуйся моим советом: возьми больничный – а показания напишешь после. Отстранись от ситуации.
Затем пришла Жаклин. Явилась с пакетом черного винограда и водрузила его на стол. Сообщила, что встретила на улице Водена, и он ей все рассказал.
– Это Луи тебя надоумил, – заявила Жаклин. Она подвинула ко мне пепельницу для косточек и начала отщипывать для меня самые красивые виноградинки. Я молча ел виноград, а Жаклин сидела и смотрела – как будто ждала, когда подействует лекарство. Я и впрямь чувствовал себя благодарным инвалидом.
– Но Ги сказал… – произнес я.
Жаклин фыркнула:
– Ты что, не знаешь Ги? Он просто не хочет неприятностей на свою голову.
– Скажи Натали, – попросил я. – Она поверит. Поговори с ней, Жаклин. Пожалуйста.
Жаклин улыбнулась, но как-то неуверенно.
– Конечно, поговорю, – быстро сказала она. И вручила мне большую виноградину. Темную, как кровь. – Чем больше народу верит, тем лучше. Я, кстати, не теряла времени. Мне звонила Софи. Она все знает от Ноэль. Ужасно расстроена. По-моему, и хочет вернуться, и одновременно не хочет. Что ей сказать, если она снова позвонит?
Я понимал, почему Софи предпочитает оставаться в стороне. К чему она сейчас вернется? Я ведь не переменился. Я так же безнадежно и нелепо влюблен в Натали Дракс. Вопреки себе, вопреки всем инстинктам, что внушали мне проявить здравомыслие, я поддался тому, что не мог контролировать. Я не переменился. И не хотел меняться.
– Передай Софи, что со мной все в порядке. Я просто хотел, чтобы она была в курсе. – Я подумал о Натали. О письмах. Ты не должна подпускать к себе мужчин. Будут неприятности. Инсулин. Хлороформ. Мышьяк. Газ зарин. Семена люпинов.
Луи заставил меня выписать своей матери яд. Эмоционально травмированный ребенок с Эдиповым комплексом, объяснял Перес.
В коме Луи Дракс хотел, чтобы его мать умерла.
Но почему? Что это за ребенок, если хочет покарать мать, которая любит его? Желает таких бед женщине, которая и без того ни жива ни мертва?
Жаклин ушла. Я доел виноград и выложил на столе косточки концентрическими кругами. Странное дело, но меня это успокоило и отвлекло от любых мыслей.
* * *
Густав подбирает большую еловую ветку с шишками, чиркает спичкой и поджигает с самого кончика, и тогда хвоя шипит в огне, а Густав поднимает ветку и машет. Сыплются искры, а я кашляю.
Каждому ребенку нужен взрослый друг, которому он мог бы доверять. Так Маман говорила. Но кто этот взрослый друг? И как его распознать?
– Ты когда-нибудь зажигал такой факел?
– Не-а. Здоровско.
Густав держит меня за руку точно как Папá. Только Густав гораздо медленнее Папá, потому что хромой. У Густава переломаны все косточки, и еще он худой, потому что ему нечего есть. Он слабый, как девятилетний мальчик, – ткнешь его пальцем, и он упадет. В драке я бы его одолел или даже мог бы случайно убить. Точно вам говорю, такое бывает. Например, кто-нибудь разозлится и уже не понимает, что творит, а потом жалеет, но уже ничего не поделаешь.
Стемнело, слышно, как ухает сова, в воздухе пахнет горелым от леса, который горит, и если посмотреть вниз на холм, виден красный огонек нашего костра, но он, наверное, приближается, потому что огонь распространяется со скоростью потопа, только огонь может забраться наверх, а вода не может, если это не какая-нибудь гигантская приливная волна под названием цунами, она способна опустошить целые местности, напр. несколько Карибских островов. Я иду с Густавом и крепко сжимаю его руку, в которой чувствуются все косточки, и до меня кое-что начинает доходить. Я должен рассказать об этом доктору Даннаше, потому что, если тебе грозит опасность, нужно рассказать взрослому, которому доверяешь. Но доктор Даннаше куда-то исчез, и я не слышу его голоса. Он всегда был рядом, как будто в другой комнате или под водой с гигантскими трубчатыми червями. А теперь растаял, как звезда. Папá однажды рассказывал про такие звезды: смотришь на звезду, а на самом деле ее уже нет, она исчезла, а вместо звезд видишь свет – это все, что от нее осталось. Но иногда действительно видно, как исчезает звезда. Вот ты смотришь на нее, но стоит моргнуть или отвернуться на секунду, а звезды уже и нету. И вот я то ли моргнул, то ли отвернулся, и доктор Даннаше исчез, а вместе с ним пропали остальные – Маман и медсестры… Куда подевался «l'Hôpital des Incurables»? Может, если я и захочу туда вернуться и рассказать все доктору Даннаше, я все равно не смогу. Я чувствую, как приближается опасность, и мне страшно.
– Мы почти на месте, – говорит Густав. – Держись меня, мой маленький джентльмен.
Но потом Густав спотыкается о корень и падает, и тогда я замечаю, какой он тощий – аж все ребра торчат, и Густав лежит на земле, отхаркивает водоросли и мокроту, и мне от этого еще страшнее, потому что вдруг он умирает быстрее, чем я думал, и, может, это я его убиваю – может, в этом опасность. Я хочу поднять Густава, но он слишком тяжелый, и я сижу возле него и жду, когда он отдышится, чтобы отправиться дальше. И мы идем дальше, только совсем медленно, потому что силы у Густава иссякли, он разрядился, как батарейка 3-А.
Потом, кажется, мы спим, потому что просыпаемся в другом месте. Тут холодно, медленно светает, а мы сидим на склоне какой-то горы и видим внизу огромную дыру, черную и зловещую, а из нее идет холодный воздух, как будто кто-то дышит на морозе.
– Нам туда, – говорит Густав. – Нам нужно спуститься. Ты ведь любишь лазать по горам, мой маленький джентльмен.
Только мне страшно. Обрыв очень крутой, а человеку, у которого переломаны все косточки и он весь забинтован и совершенно без сил, туда и вовсе не спуститься. И еще я не хочу идти туда с Густавом, потому что если мы попадем в эту дыру, как мы выберемся наружу? Нам оттуда уже не вылезти. Это отстой, и мне бы нужно поговорить с доктором Даннаше или даже с Жирным Пересом, рассказать про страх, который сжимает меня, как будто огромная змея, вот-вот кости хрустнут. Но никого нет, только я и Густав, обмотанный окровавленными бинтами, а если ты делаешь в жизни выбор, это твой выбор, и больше ничей.