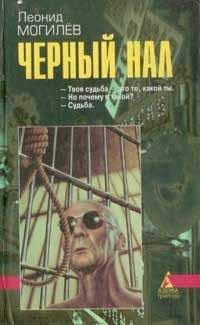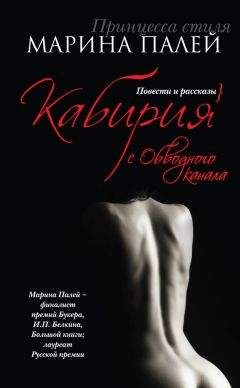— А не пожалеешь? — спросил Зега.
— Он никого не пожалеет, — подтвердил Петруха, приложил ухо к двери, послушал немного и стал раздраивать.
— Ну, ну. Желаю успеха, — подвел итог Сема и вышел.
— А как же выигрыш?
— А подавитесь. Отдаю свою долю на передачи тем, кого лишат свободы.
Но выйти из подвала Сема, естественно, не смог. Он обнаружил, что заперт в коридоре, и тогда стал торопливо стучать в дверь и силиться сорвать замок. Скобочку вырвать. Стуки и крики услышали отдыхавшие между сценами актеры и побежали искать завпоста с ключами. Но того нигде не оказывалось. Не оказалось и ключа на вахте, так как он давно был изъят Хаповым. А через дверь Сема вкратце объяснил случившееся, и вскоре все знали, что происходит. Потом нашелся ключ, и Сему выпустили. Тогда-то и зазвонил телефон в подвале.
— Автономная группа защиты искусства слушает, — сказал Зега.
— У аппарата секретарь парторганизации Ячменко. Откройте, ребята. Хватит самодеятельности. Завтра соберем партактив, комсомольцев, все обсудим. Если вы правы, будем решать вопрос.
— У вас у самого рыльце в пушку. И в партии вы последние денечки, — ответил Зега и повесил трубку. Характерный актер Ячменко подавился слюной и повесил трубку.
— Ячменко, на выход, — заорала дико и громко помреж, и без пяти минут беспартийный поскакал лицедействовать;. Публика ликовала. И все так бы и шло своим ходом, но тут Петруха надорвал очередной билет и выиграл автомобиль.
— А может, уничтожим его, — спросил осторожно Зега, — у нас ведь в подвале принципы дороже. Давай порвем лотерейку.
— Ведь искусство, — поддакнул Клочков.
— А ну его все, — решил вдруг Зега и разгерметизировал отсек. Выходили под аплодисменты труппы и злобные выкрики мафии. Хапов тем временем сидел в кабинете трезвый и никого не принимал.
— Напрасно, граждане. Процесс не состоится. Мы всех прощаем, — объявил Петруха, и все герои покинули двор.
— Вы куда? — донеслось вслед.
— В зональное управление лотерей. К утру успеем. — И калитка захлопнулась.
А уже утро наклонило свой строгий кувшин, и тот странный предутренний свет стал вытекать из этого сосуда, расползаться, проникать, наполнять комнаты и души, вершить свой суд и исполнять приговоры. А мы так и не сомкнули глаз.
— Ты покинул храм.
— Я покинул храм. Но вот беда. Что-то еще держало меня рядом и влекло.
— Неуловимое искусство.
— Нет. Не было там никакого искусства. Было колыхание занавеса, занятные фонарики, вращение лесов, кружение особ. Ну то, сказочное, из детства. Но усугублено и опошлено интрижками, изменами, технологиями.
— Во всех этих историях что-то маловато было настоящих трагедий, драм маловато, любви безответной.
— В храме не было места любви. В этом и был его тайный и обиходный изъян. И чтобы свести концы с концами и совместить выступы и впадины, как говорил один литератор, я расскажу тебе эпилог. Главу восьмую.
— Но все же лицедейства было достаточно.
— Этого-то хватало.
— А глава восьмая, она не очень жалостливая?
— Как тебе сказать? Тогда я постыдно и очистительно плакал.
— Слушай, я чувствую, что там, где-то по краю сюжета, пройдет Сема.
— Да не без этого. А что с ним? Чем он кончил?
— Тут разные версии. По одной, уехал на Украину и вступил в национально-освободительную армию.
— А как же диоптрии?
— Редактором многотиражки. Тогда уже все их литераторы уехали в Германию. Свободных литературных мест было много.
— А другое?
— Прямое попадание снарядом. Снаряд влетел точно в окно его комнаты и разорвал Сему если не на куски, то на несколько крупных частей. Жалко вам товарища?
— Да как вам сказать?
— Ну, еще говорили разное. Узнаешь, если захочешь. Но в том городе его больше нет.
— Это непредставимо.
— Ты мне зубы не заговаривай. Давай про свои интрижки. Кай называется глава?
— Глава называется «Поминки по знакомой женщине». А что будет потом? Больше мне нечего рассказывать.
— Как это нечего? А то, что было после?
— Это совсем другая история. И нужно время, чтобы все припомнить. Пересказать складно и вразумительно.
— У нас будет много времени.
— Как это у нас? Меня скоро выписывают.
— И ты хочешь уйти отсюда? Из этой комнаты?
— Я хочу. То есть я не хочу. Мне есть куда идти. У меня все там. Между Ревелем и Нарвой. Все в целости и сохранности. Но чего-то не хватает, чтобы вернуться. Тогда круг замкнется, но как-то некрепко. А что может быть хуже разорванного круга времени?
— Тебе не хватает меня.
— Но ты же…
— Время лицедейства прошло. Я не хочу больше перевоплощаться.
— А как же… Есть ведь какие-то другие люди?
— Это длинная история, и со временем я облеку ее в повествовательные формы. А ты возьмешь меня вот так, без ничего, прямо из палаты, повезешь через разбомбленные города в холодном поезде?
— Тут езды всего ничего. Но разбомбленного хватит.
— Тогда рассказывай и поедем.
— А как же выписка? Как же бумажки?
— Вышлют почтой.
Через полчаса мы выйдем в совершенно домашний уже коридор, где красное пятно от абажура, и оттого предутренний свет резвится совершенно бесстыдно и властно, и пройдем мимо сонной дежурной, а она захочет сказать что-то и промолчит, дальше по коридору и вниз пять ступенек, и я отодвину задвижку, мы выйдем. Потом нужно ловить какую-нибудь машину до Варшавского, где утром поезд, и дай Бог, чтобы он не был отменен.
Поминки по знакомой женщине
Утром со стороны моря пришел дождь. Вначале он миновал город стороной и устремился дальше, обильно падая на леса и дороги, но потом вернулся и, словно признаваясь наконец в настоящей привязанности, остался и падал еще долго, потом перестал, и тотчас настал вечер.
В это самое время тракторист одного из дальних городских хозяйств, в пух разругавшись с бригадиром, выпил в рощице у заправки водки и выехал на магистраль. На старом колесном тракторе одна фара не горела, а другая погасла вскоре, но город был близок и видим, и нелепый механизм покатил себе дальше, разве только еще резвее. Он шел во втором ряду, пропуская новые и старые машины, автобусы, грузовики, легковые, а потом неожиданно для себя пошел на обгон, хотя обойти никого не мог, и только поболтался сбоку, а потом вернулся в свой ряд. Один, другой, третий автомобиль, новый и красивый, обошел его, и он опять вышел в запретный ряд и смешал, разрушил естественный ход колес и времен. Но все обошлось, и ему стало весело, а город уже был рядом. На повороте навстречу выскочил белый «Запорожец», и пьяный тракторист хотел было вернуться на свое законное и установленное место, но не успел, задел белую машину большим колесом, а тормозя, совершенно спокойно и отчетливо увидел, как появившийся из серого воздуха «Икарус» подмял маленькую, будто игрушечную машину, сплющил, протащил вперед, и она почти сразу загорелась.
Но это было уже все равно тем, кто был там, внутри белой жестяной коробки. Женщина, сидевшая справа, страха не почувствовала и совершенно равнодушно приняла в себя все, что несло разрушение — и смерть, и покой. Мужчина испугался, но это было так недолго.
Когда автобус оттащили и потушили пламя, специалисты по такого рода происшествиям засуетились с рулетками, домкратами, шприцами. Констатировали факт, потом запротоколировали его. Тогда-то дождь, сделавший свою часть скверной работы, вернулся, чтобы посмотреть, как оно все вышло. Дождь падал на лысину тракториста, сидевшего теперь на обочине и мотавшего головой, а рядом жестикулировали милицейские чины, и дождь падал на их фуражки и погоны. Тормозной след смыло, будто его и не было. Но свидетелей было больше, чем нужно. Пассажиры автобуса вытирали кровь с разбитых лиц и жалели о прерванном путешествии. Ротозеи все прибывали. Что может быть ненадежнее мокрого асфальта? И место воссоединения двух душ со Временем стало просто местом происшествия, где воды, пришедшие с небес, смывали с асфальта кровь, пепел и разочарование. А потом наконец дождь отправился туда, где его ждали другие дела, города, люди и магистрали.
Та внеземная сила, которая отыскала женщину на этом шоссе и вырвала ее из этого круга бытия, решила пощадить женское лицо. Потом его благопристойно прикрыли простыней. А еще позднее, дома, она лежала заштопанная, обмытая, одетая в свой почти новый демисезонный костюм, купленный прошлой осенью, и не в тапочках вовсе, а в своих любимых туфлях на низком каблуке, изготовленных в Польше. «Видите, как удачно горюшко наше расколотилось? Мордашка-то цела», — говорили потом родственники.
Она любила жить, потому отчасти, что была больна неумолимой и строгой болезнью крови, от которой медленно умирала.
Не знаю, как там все это происходило. Стук, стук, и комья сырой земли на крышку гроба. Говорят, на поминках было много людей.