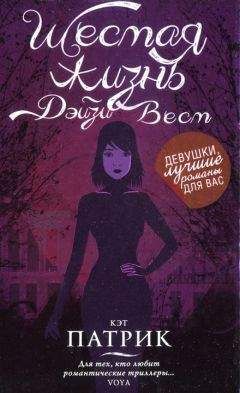Я открываю рот от неожиданности и, моргая, таращусь на Мэйсона.
Как он мог рассказать мне об этом, не дав даже возможности одеться?
Впрочем, вряд ли стоило ожидать от него другого подхода: он медик и смерть — часть его профессии. В этом нет ничего личного. Да и от Одри получить предупреждение я не могла. Почему я рассчитывала на то, что кто-то предупредит меня заранее, непонятно: ведь именно так, неожиданно, заканчивается жизнь людей, не имеющих доступа к «Воскрешению».
Они впадают в кому.
И умирают.
Я так беспокоюсь об Одри, что несколько наших последних встреч прокручиваются в памяти, как видеозапись, поставленная в режим бесконечного воспроизведения. Пока мы летим в самолете домой, я едва осознаю, где нахожусь. Приземлившись, мы забираем багаж, берем такси и отправляемся из аэропорта прямиком в больницу. Пока мы едем, Мэйсон пытается со мной поговорить:
— Дэйзи, я привез тебя сюда, чтобы ты могла попрощаться с подругой, но мне хотелось бы сказать тебе кое-что.
Я не отвечаю, и Мэйсон продолжает.
— Ехать в больницу необязательно, — говорит он. — Одри простила бы тебя, если бы ты не поехала.
— Что ты такое говоришь? — хрипло спрашиваю я, с трудом справляясь с голосом после долгого молчания.
— Я много думал об этом, пока мы летели, — объясняет Мэйсон. — К постели умирающего обычно приходят, потому что считают, что нужно подержать любимого человека за руку и сказать ему пару слов на прощание, и все считают, что так и нужно. Но, Дэйзи, мне кажется, это не всегда хорошо. Увидев любимого человека на пороге смерти, ты таким его и запоминаешь. И все же люди идут на это. Раз ты хочешь попрощаться, привезти тебя туда — мой долг. Я просто хочу сказать, что если ты хочешь запомнить Одри такой, какой она была раньше — улыбающейся и веселой, в этом нет ничего плохого. И в этом случае не нужно ехать в больницу. Потому что сейчас она другая. Сознание ее покинуло. Она еще жива, но еле-еле. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ты понимаешь это?
Я отвечаю не сразу. Помню, как Одри подошла ко мне в коридоре в первый день знакомства. Она была прекрасна в тот день. Я быстро обдумываю то, что сказал Мэйсон. Но все же мне кажется, что покинуть подругу в тяжелое время ради того, чтобы в памяти она осталась улыбающейся и веселой, неправильно. Мне кажется, Мэйсон и сам не верит в то, что говорит.
— Я еду, — говорю я тихим, отрешенным голосом.
— Я не уверен, что это верное решение.
— Но это мое решение, понятно?
— Понятно, — говорит Мэйсон.
— Тогда едем.
Проходя под аркой над входом в больницу, я начинаю волноваться. Кажется, я боюсь увидеть Одри, как будто в том, что она неминуемо и скоро умрет, кроется какая-то опасность. Но я всем сердцем чувствую, что должна ее увидеть.
Мы идем по коридорам, заходим в какие-то двери и пересекаем большой зал. Стены зала окрашены в приглушенные, но яркие цвета; одна стена целиком сделана из стекла, и помещение залито ярким светом. Обстановка призвана внушать человеку надежду, но на меня она действует прямо противоположным образом.
Мы идем в приемную отделения интенсивной терапии. В помещении полукругом стоят столы, как в комнате отдыха; возле телевизора — мягкие кресла, а вдоль стен — диваны. Мебель либо блекло-синяя — в такой цвет часто бывает окрашен рабочий стол, отображаемый монитором, — либо розовая, цвета мяса лосося. Помещение больше нашей подвальной лаборатории, но в нем всего пять человек: семья Маккин без Одри и мы с Мэйсоном.
Когда мы входим, Мэтт отрывает взгляд от окна и смотрит на меня. Лицо осунувшееся, поникшее, и лишь по выражению горя в глазах можно понять, что он испытывает. Хотя он и вел себя безобразно, когда мы виделись в последний раз, мне все равно хочется подбежать, обнять и сделать все, что в моих силах, чтобы его утешить. Однако прежде чем я успеваю додумать мысль до конца, Мэтт снова отворачивается к окну.
Миссис Маккин размешивает сахар в бумажном стаканчике с чаем; мистер Маккин ходит из стороны в сторону. Непонятно, кто сидит с Одри, но мистер Маккин объясняет Мэйсону, что утренние часы посещения больных окончены и нужно ждать вечера.
— Это плохо, — говорит Мэйсон, бросая взгляд на меня. — Когда начинаются вечерние часы? Дэйзи хочет увидеть Одри, — добавляет он приглушенным голосом.
Мистер Маккин смотрит на меня с грустной улыбкой.
— Боюсь, это невозможно, — говорит он, причиняя мне невыносимую боль, — в реанимационное отделение допускают только членов семьи.
— Ясно, — отвечает Мэйсон голосом бизнесмена. Мне в голову приходит иррациональная мысль: не мог ли Мэйсон позвонить мистеру Маккину заранее и попросить его сказать это. Конечно, это ерунда; я слишком хорошо знаю Мэйсона, он не стал бы так поступать. В машине он пытался меня отговорить, но делал это для того, чтобы защитить меня.
Чувствуя себя бессильной и опустошенной, я, выбрав кресло в противоположном углу, подальше от Мэтта, падаю в него.
Мужчины о чем-то разговаривают приглушенными голосами. Время тянется ужасно медленно. Я старюсь не слушать, но все равно понимаю, о чем они говорят: Мэйсон спрашивает мистера Маккина, чем он может помочь. Он даже предлагает Мэтту психологическую помощь. Меня это бесит, хоть я и понимаю, что Мэйсон лишь следует легенде. Я кусаю себя за большой палец. Мэтт смотрит в окно. Мужчины обмениваются рукопожатиями. Миссис Маккин сидит, уставившись на дно стаканчика с чаем.
— Я отвезу тебя домой, говорит Мэйсон, подходя ко мне.
— И все?
— Да, и все.
Чувствуя себя изможденной и переполненной ненавистью к больничным правилам, я, едва войдя в дом, бегу в спальню, где бросаюсь на кровать и зарываюсь в простыни. Вскоре в комнату приходит Мэйсон. Он садится на кровать и гладит меня по ноге, потом убирает руки и кладет их на колени.
— Дэйзи, ты не хотела бы вернуться в Сиэтл и провести еще несколько дней с Меган?
— Я хочу остаться здесь, на случай, если что-то изменится, — отвечаю я.
— Это практически нереально.
— И все же.
— Я думал, общество Меган позволит тебе прийти в себя — говорит Мэйсон. — Мне кажется, вам весело вместе. А я тем временем помог бы Кэйси…
— Так ты на самом деле пришел спросить, можно ли тебе вернуться в Сиэтл, чтобы ускорить тестирование? — перебиваю его я.
— Не только, но и это было бы неплохо, — честно признается Мэйсон.
— Тогда поезжай.
— Я не могу оставить тебя здесь одну.
— Ты уже оставлял меня миллион раз, — говорю я, качая головой. — Попроси кого-нибудь проследить, чтобы все было в порядке, если просто так не можешь.
— Я… — начинает Мэйсон и останавливается. Судя по лицу, он обдумывает мое предложение.
— Да все нормально, Мэйсон, не переживай. Кроме того, мне хочется побыть одной.
Мэйсон понимающе кивает. Он, как и я, любит одиночество.
— Ладно, если ты действительно этого хочешь, я, наверное, позвоню Джеймсу.
Через два часа я остаюсь в пустом доме коротать самый плохой день за всю свою жизнь.
Во сне я вздрагиваю и резко просыпаюсь. Сначала мне кажется, что я проспала целые сутки, но через секунду я понимаю, что ужасный день, начавшийся в Сиэтле, никак не кончится. Он не принес мне ничего хорошего: в больнице мне не позволили повидаться с умирающей подругой, а потом я осталась одна в пустом доме.
В течение минуты я лежу без движения, думая обо всем, что случилось за последнее время, и особенно о том, что произошло вчера ночью, когда жизнь неожиданно пошла под откос. Сажусь в кровати, протирая глаза и ощущая нарастающее возбуждение. В конце концов, когда сидеть без движения уже нет сил, злоба и адреналин заставляют меня выскочить из кровати. Я бегу вниз и, остановившись между гостиной и кухней, поворачиваюсь в разные стороны, не вполне понимая, что хочу сделать.
Нужно что-то предпринять, это ясно.
И вдруг в меня как будто ударяет молния: я понимаю, что нужно делать.
Повернувшись, бегу к двери, ведущей в подвал. Включив свет на лестнице, поспешно спускаюсь вниз, кашляя от бьющего в нос запаха куриного помета. Оказавшись внизу, я проверяю, все ли лампы горят. Я хочу видеть все: медицинское оборудование, клетки, в которых мечутся мохнатые пищащие подопытные зверьки, и запертый шкаф, в котором хранится оружие.
Но больше всего я хочу увидеть черный чемоданчик.
В голове звучит голос Мэйсона: «В случае крайней необходимости».
Если сейчас не такой случай, то я уж и не знаю, что тогда им должно считаться.
Взявшись за ручку чемоданчика, я на миг останавливаюсь, не решаясь открыть его. В глубине души я понимаю, что делаю что-то очень нехорошее. Но потом я думаю об Одри, о Мэтте. Я вспоминаю Бога, проект и Нору. И как, посредством договоров и правил, он указывает мне, что делать.