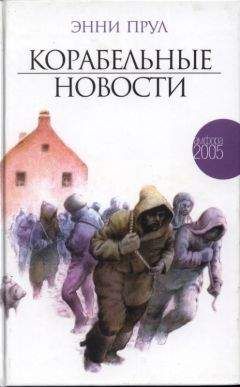Данглар прочел и покачал головой.
— Это катастрофа, — сказал он.
— Умоляю, не произносите больше это слово, Данглар. Соедините меня с коллегами из Марселя, район Старый порт.
— Старый порт… Старый порт… это Масена, — проговорил Данглар, который знал фамилии окружных и старших комиссаров всей страны, а также главные города всех округов. — Он знает свое дело и совсем не похож на предшественника, тот был просто зверь. Кончилось тем, что его понизили в чине за рукоприкладство, издевался над арабами. На его место назначили Масена, он приличный человек.
— Тем лучше, — ответил Адамберг, — потому что нам предстоит действовать заодно.
В пять минут седьмого Адамберг стоял на площади Эдгар-Кине в ожидании вечерних новостей чтеца, но ничего нового не услышал. С тех пор как сеятелю пришлось посылать письма по почте, «странные» послания стали появляться реже. Адамберг знал это, он пришел понаблюдать за лицами слушателей. Толпа теперь была гораздо плотнее, и многие вытягивали шею, чтобы разглядеть этого «глашатая», возвестившего появление чумы. Двое полицейских, постоянно дежурившие на площади, получили приказ охранять Ле Герна в случае, если во время чтения возникнут беспорядки.
Адамберг стоял под деревом недалеко от эстрады, слушая пояснения Декамбре. Тот уже составил список из сорока человек, которых разделил на три колонки — завсегдатаи, частые и случайные слушатели, с краткими приметами, к тому прилагающимися, как выражался Ле Герн. Красной чертой он подчеркнул тех, кто слушал «Страничку французской истории» и заключал пари о судьбе пострадавших от кораблекрушения у берегов Финистера, синей — тех, кто спешил на работу и уходил сразу после чтения, желтой — зевак, которые оставались на площади посудачить или отправлялись в «Викинг», фиолетовой — завсегдатаев, не пропускавших ни одного выпуска. Все аккуратно и ясно. Держа в руке листок, Декамбре незаметно указывал комиссару на людей из списка.
— «Кармелла», трехмачтовое австрийское судно водоизмещением 405 тонн, груженное балластом, вышло из Бордо в Кардифф и затонуло у берегов Гак-ар-Вилер. Четырнадцать членов экипажа спасены, — закончил Жосс, спрыгивая с эстрады.
— Скорее смотрите, — сказал Декамбре. — Те, у кого вид недоуменный, кто хмурит брови, ничего не понимая, — это новенькие.
— Синие, значит, — кивнул Адамберг.
— Точно. А те, кто обсуждает, качает головой, жестикулирует, — это бывалые.
Декамбре отправился помогать Лизбете чистить стручковую фасоль, несколько ящиков которой купил по дешевке, а комиссар зашел в «Викинг», протиснулся под нос драккара и уселся за столик, который уже считал своим. Заключившие пари об исходе кораблекрушения шумно толпились в баре, выигранные деньги переходили из рук в руки. Все ставки были записаны Бертеном, чтобы не было жульничества. Памятуя о божественных предках хозяина заведения, люди считали его человеком надежным и неподкупным.
Адамберг заказал кофе и загляделся на профиль Мари-Бель, она сидела за соседним столиком и очень старательно писала письмо. Это была нежная и хрупкая девушка, и ее можно было бы назвать восхитительной, будь ее губы очерчены более четко. Как и у брата, у нее были густые, вьющиеся, спадающие на плечи волосы, только в отличие от волос Дамаса они были чистые и светлые. Улыбнувшись комиссару, она вновь принялась за свое занятие. Сидевшая рядом молодая женщина по имени Ева пыталась ей помогать. Она казалась менее хорошенькой, видимо, оттого, что ей не хватало живости, у нее было гладкое серьезное лицо и синеватые круги под глазами. Именно такой Адамберг представлял себе какую-нибудь героиню девятнадцатого века, запертую в провинциальной глуши, в доме, обшитом деревянными панелями.
— Так хорошо? Думаешь, он поймет? — спрашивала Мари-Бель.
— Сойдет, — отвечала Ева, — только коротковато.
— Может, про погоду написать?
— Можно.
Мари-Бель снова склонилась над бумагой, крепко сжимая ручку.
— В слове «простудился» пишется «о», а не «а», — поправила Ева.
— Ты точно знаешь?
— Мне так кажется. Дай попробую.
Нахмурясь, Ева несколько раз написала слово на бумажке, не зная, что выбрать.
— Теперь уж и не знаю, совсем запуталась.
Мари-Бель повернулась к Адамбергу.
— Комиссар, — застенчиво спросила она, — в слове «простудился» — «о» или «а»?
Адамберга впервые просили помочь с орфографией, и он совершенно не знал, что ответить.
— В предложении «Но Дамас не простудился»? — уточнила Мари-Бель.
Адамберг пояснил, что с орфографией он не в ладах, и, похоже, Мари-Бель это огорчило.
— Но ведь вы полицейский, — недоумевала она.
— И тем не менее, Мари-Бель.
— Я пойду, — сказала Ева, тронув Мари-Бель за руку. — Обещала Дамасу помочь посчитать выручку.
— Спасибо, — ответила Мари-Бель, — ты так добра, что согласилась меня заменить, а то я с этим письмом еще долго провожусь.
— Не за что, — сказала Ева, — для меня это развлечение.
Она бесшумно поднялась и вышла, а Мари-Бель снова повернулась к Адамбергу:
— Комиссар, я должна написать ему об этой… об этом… бедствии? Или об этом лучше молчать?
Адамберг медленно покачал головой:
— Никакого бедствия нет.
— А как же четверки? А черные тела?
Адамберг снова покачал головой:
— Есть убийца, Мари-Бель, этого уже более чем достаточно. Но никакой чумы нет и в помине.
— Вам можно верить?
— На все сто.
Мари-Бель опять улыбнулась, теперь совсем успокоившись.
— Боюсь, Ева влюблена в Дамаса, — нахмурившись, продолжала она, словно, после того как Адамберг рассеял ее страхи насчет чумы, он сможет разрешить и другие заботы, мучившие ее. — Советник говорит, что это к ней жизнь возвращается, что так и надо. Но тут я с ним не согласна.
— Почему? — спросил Адамберг!
— Потому что Дамас влюблен в толстую Лизбету, вот почему.
— Вам не нравится Лизбета?
Мари-Бель сморщила носик.
— Она славная, — продолжала девушка, — но от нее столько шума. И я ее немножко побаиваюсь. Во всяком случае, Лизбета у нас — особа неприкосновенная. Советник говорит, что она — как дерево, которое дает приют сотне птиц. Я не спорю, но от нее оглохнуть можно. И потом, она всюду устанавливает свои порядки. По ней все мужчины сохнут. Понятное дело, с ее-то опытом.
— Вы ревнуете? — улыбнулся Адамберг.
— Советник говорит, что да, а я бы не сказала. Меня вот беспокоит, что Дамас проводит там все вечера. Понятное дело, когда Лизбета поет, все подпадают под ее чары. Дамас по-настоящему влип, Еву он не замечает, она ведь тихоня. Конечно, с ней скучно, но оно и понятно, она ведь столько пережила!
Мари-Бель смерила Адамберга испытующим взглядом, пытаясь понять, известно ли ему что-нибудь о Еве. Похоже, ничего.
— Муж несколько лет бил ее, — пояснила она, — не мог сдержаться. Она сбежала, и теперь он ее ищет, чтобы убить, представляете? Как так может быть, что полиция прежде не убьет самого мужа? Никто не должен знать фамилию Евы, так приказал советник, и горе тому, кто попытается ее разузнать. Сам-то он знает, но ему можно, он ведь советник.
Адамберг позволил себе увлечься беседой, время от время поглядывая по сторонам. Ле Герн привязывал урну на ночь к стволу платана. Шум телефонных звонков, который преследовал комиссара от самой работы, понемногу стихал. Чем банальнее была беседа, тем больше он отдыхал. Тревожными думами он был сыт по горло.
— Ясное дело, — разглагольствовала Мари-Бель, развернувшись к комиссару, — Еве это на пользу, она ведь с тех пор мужчин на дух не переносит. Теперь она оживет. Глядя на Дамаса, она понимает, что есть парни и получше того подонка, что ее лупил. Так оно к лучшему, потому что жизнь женщины без мужчины… понятное дело, такая жизнь лишена всякого смысла. Лизбета в это не верит, она говорит, что любовь это сказки для дураков. Говорит, что это чушь собачья, можете себе представить?
— Она была проституткой? — спросил Адамберг.
— Вовсе нет! — ошеломленно воскликнула Мари-Бель. — С чего вы взяли?
Адамберг пожалел о своих словах. Мари-Бель оказалась гораздо наивнее, чем он полагал, и это позволяло ему расслабиться еще больше.
— Это все из-за вашей профессии, — вздохнула Мари-Бель. — Вы во всем видите плохое.
— Боюсь, вы правы.
— А вы-то сами, вы в любовь верите? Я спрашиваю у всех подряд, потому что здесь с Лизбетой никто не спорит.
Адамберг молчал, и Мари-Бель покачала головой.
— Ясное дело, — заключила она, — вы же все по-другому видите. А вот советник за любовь заступается, не важно, чушь это или нет. Он говорит, лучше умереть от любви, чем от скуки. Это точно про Еву. Она прямо ожила с тех пор, как помогает Дамасу с кассой. Только ведь он любит Лизбету.