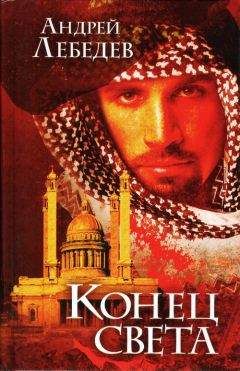— Все? — переспросил Ходжахмет. — Так быстро?
— Да, мы уложились в шестьдесят секунд, перерезали всю команду в отсеке и подорвали корабль, — ответил Москит.
— Но все ли вы предусмотрели? — пытливо взглянув в глаза Москита, спросил Ходжахмет.
— Да, хозяин, — ответил Москит, прижимая руку к левой стороне груди.
— А мне кажется, что не все, — сказал Ходжахмет и подал знак Алжирцу, стоявшему у него за спиной.
— Давайте повторим этот эпизод, — сказал Ходжахмет, — только в качестве моряков, вместо тех баранов, вместо тех мешков, которых резали ваши курсанты, теперь будут люди нашего уважаемого Алжирца…
Москит как-то мгновенно спал с лица.
— Давайте, давайте начинать вторую попытку, — сказал Ходжахмет.
Алжирец отдал распоряжение своим людям, и девятеро мужчин, одетых в рабочие робы моряков-подводников, полезли в отсек, занимая места на койках и возле торпед.
— Мои люди готовы, — сказал Алжирец.
— Хорошо, — кивнул Ходжахмет, — теперь вы запускайте своих людей, — сказал он, обращаясь к Москиту.
Весь бледный, словно какие-то вампиры только что отсосали всю его кровь, Москит дал команду.
Хоп!
Щелчок, и пятеро курсантов-террористов скатились по желобам в учебный отсек.
Снова завязалась схватка.
Но теперь в ход пошли и пистолеты.
Бах-бах!
Вот уже один курсант-террорист убит, вот второй…
Моряки дают курсантам мощный отпор.
Вот еще один террорист поник, упав на стальную палубу.
— Ваши люди не выполнили задания, Москит, — подытожил Ходжахмет, — ваши люди оказались дерьмом. Дерьмом, как и вся ваша школа.
— Ходжахмет! — взмолился начальник лагеря. — Но ведь простые матросы не могут быть чемпионами по боевым искусствам, как люди твоего Алжирца!
— Могут, — отрезал Ходжахмет, — ты недооцениваешь русских, ты совершил преступление и будешь наказан.
* * *
Москит с завязанными за спиной руками и с завязанными глазами стоял на коленях возле стены на заднем дворе.
— Знаешь, почему мы можем проиграть наше дело? — спросил стоящий рядом с ним Ходжахмет.
— Прости, прости, Ходжахмет, умоляю тебя, прости, дай мне самому отправиться на следующую телепортацию, я захвачу американский авианосец, я обещаю тебе, — завывал Москит, пытаясь подползти к ноге Ходжахмета, чтобы облобызать ее.
— Нет, ты скажи, ты знаешь, почему мы можем проиграть наше дело?
— Прости, дай мне шанс оправдаться!
— Нет, — сказал Ходжахмет и сделал кивок Алжирцу.
* * *
У Ходжахмета не было жалости. Ни к кому. Без этого нельзя выиграть войну. И этому он научился там, в Афгане. Он не знал и не запоминал тех, кого убивал.
Кто такой рядовой Пеночкин?
Рядовой Пеночкин служил трудно. Наверное, оттого, что характер у него был смирный. Никого не хотел обижать. А вот его обижали все кому не лень.
Выражаясь армейским языком — чмырили. И как своего праздника ждал рядовой Пеночкин приказа на увольнение нынешней банды дедов-дембелей, ждал, когда они обопьются своей водки, как от пуза напились на недавнюю еще стодневку, и как напоследок, вдоволь покуражившись, разъедутся наконец по домам и станет ему, рядовому Пеночкину, тогда полегче… А там, через годик, и сам уже начнет считать деньки, по сантиметру отрезая каждый вечер от ритуального портновского метра.
А пока. А пока — очень трудно дается ему эта служба.
Вот ставят машины на «тэ-о». На техническое обслуживание, значит. Ну, помыть, естественно, поменять масло в двигателе, если надо, то и в трансмиссии масло поменять. Зажигание, клапана отрегулировать. То да се… И ладно свою машину — это, как говорится, святое. Но ему приходится каждому деду-дембелю машины обслуживать. Причем самую трудную и грязную работу выполнять. Колесо зиловское перемонтировать — наломаешься, кувалдой так намашешься, что и девушки уже не снятся.
Как вечер, в казарме едва покажешься, а дедушка Панкрат, этот ефрейтор Панкратов, сразу на него, на Пеночкина: «Ты че, дух, совсем припух, что ли? В парке работы нет? Дедушкину машинку давай иди помой. И в кабинке, чтоб дедушке было уютно сидеть, прибери».
И ладно только бы мыть. Мыть — дело не трудное — прыскай себе из шланга да думай о своем. О маме, о девчонках-одноклассницах. А то ведь заставят тяжести таскать. Те же аккумуляторы. И что самое обидное — его же аккумулятор, новый, с его же, Пеночкина, машины, дед Панкрат заставил на свою переставить, а ему старый свой отдал. Теперь у Пеночкина машина заводится только с буксира. Мучение по утрам. И глушить нельзя. А горючку те же старики у него же молодого и сливают. Так что ни глушить нельзя, ни мотор гонять: соляры всегда в самый обрез. А прапорщики Крышкин и Бильтюков, что по снабжению и по ремонту, те все видят, но только посмеиваются. И ротному, капитану Репке — фамилия у него такая, Репка — так чтоб ему пожаловаться — ни-ни! Себе же хуже будет. А капитан ругается! Опять Пеночкин заглох на марше. Сниму, мол, с машины, пойдешь в караульную роту, через день — на ремень. А там — с ума сойдешь, да и деды там еще сильней лютуют.
Иногда думалось: «Вот стану я дедом. И что? Неужели тоже буду молодого чмырить-гонять? Ну, до этого надо еще служить и служить».
Маме Пеночкин не жаловался. И девчонкам… Пеночкин переписывался с двумя одноклассницами. Но его девчонками они не были в том понимании, как это принято в армии, мол, девчонка, которая ждет. Ни с Танюшкой Огородниковой, ни с Ленкой Ивановой ничего у него не было. Просто переписывался, и это грело. Очень даже грело.
Маме вообще по жизни досталось. Отец их бросил, Пеночкину еще полгодика тогда только было. А у нее еще баба Люба парализованная. Так и металась мама между фабрикой да приусадебным огородом. И Пеночкин рос мальчиком болезненным. Сколько мама с ним насиделась в этих бесконечных очередях к докторам!
Так зачем маму теперь мучить и расстраивать рассказами про деда Панкрата?
«Все у меня нормально. Здоров. Служу как все…»
И когда перед стодневкой деды наехали на него, мол, пиши мамане, чтоб денежный перевод прислала, он, Пеночкин, не поддался. Так и сказал: «Нет у нас денег, нищие мы с мамой. С меня, хотите — кожу сдирайте, а матери писать не стану».
И отстали от него. Врезали пару зуботычин и отстали.
Пеночкин подцепил свой ЗИЛ к дежурному тягачу, завел с толчка.
Покурил, сидя в кабине. Покурил, хоть молодым в парке это и запрещалось по всем писаным и неписаным уставам. Так, дернул три затяжки да захабарил. Денег на сигареты-то нету. Каждый свой хабарик «Примы», словно драгоценность какую, в пилотке носишь.
«Дед» Панкрат дверцу открыл:
— Ты че, «дух» поганый, припух? Ща под погрузку на склады окружные поедем. Я в колонне за тобой. Заглохнешь — убью, понял?
В колонне они без старших машины поедут. Это и хорошо, но это же и плохо.
Хорошо, потому что можно ехать и думать о своем. А Пеночкин не умел ехать и думать о своем, если в кабине старший. Пусть даже и не говорит, пусть даже молчит, а Пеночкин все равно напряжется весь и не может думать-мечтать. Так что в колонне ехать хорошо. Будет он думать про хорошее. Про маму. Про девчонок. Вот вернется он, Пеночкин, домой, отдохнет месячишко, вскопает маме огород, пойдет на их фабрику в транспортный цех — шофером. Или вообще устроится дальнобоем, если повезет. Женится. Только вот не решил еще на ком. Так что хорошо одному ехать, без старшего машины.
Но это же и плохо. Потому как если случится чего — заглохнешь или поломаешься — только с него и спрос потом, и некому хоть бы присутствием своим защитить от «деда» Панкрата.
На складах загрузились быстро. Там вообще как в американском кино — погрузчики шмыгают — вжик-вжик! Задом машину подал, борт задний опустил, два раза тебе по четыре ящика кинули — и отъезжай! Правда, целый час потом Репка колонну выстраивал. Пеночкину пришлось мотор заглушить — а не то соляру пожгешь, потом в дороге встанешь, «дед» Панкрат по шее надает. А ведь это он же у него и слил пятьдесят литров. И задвинул куда-то гражданским. И уже небось и водки купил.
Ехали быстро. Вместо положенных сорока Репка гнал где-то под пятьдесят. Торопился, наверное, к своей вернуться. Красивая у него жинка. Солдаты треплются, будто изменяет ему, но врут. Они всегда, как красивую увидят, так врут про такую всякие гадости. Вот и «дед» Панкрат брехал, будто она с прошлогодними дедами гуляла.
Жрать в армии всю дорогу охота. А когда они обедать будут, ротный не сказал. Правда, Леха Золотицкий, молодой боец Пеночкиного призыва, заметил вроде, что на кого-то там грузили термосы со жратвой. Может, когда разгрузимся, так и дадут?
Вспомнились мамины праздничные обеды. Раз в месяц, с получки, мама покупала в фабричном магазине мясо и делала борщ. Такой вкусный, такой аппетитный! Жарила котлеты. И еще пекла пирог. С капустой.