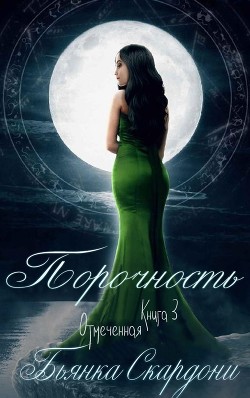и я уже начал беспокоиться. Но вот Лассон показался снова. Он вышел из-за кузова, держа револьвер в опущенной правой руке, а левую поднял в воздух, подавая нам какой-то сигнал. Люди в комнате опустили оружие. Всё закончилось.
Через минуту за Лассоном вышел Мекат, еле ковыляя и закрывая лицо руками. Я подумал, что он ранен, потому что он облокотился спиной на вездеход и медленно сполз на снег. Лассон присел напротив него и что-то говорил. Мекат не отрывал рук от лица. Кажется, он рыдал. Он точно был цел, потому что Лассон не пытался оказать ему помощь. Норвальдец махнул нам, подзывая. Я непроизвольно зевнул, широко открыв трясущийся рот, и слух вернулся ко мне. Люди вокруг спешили наружу. Переведя дух, я последним вышел из здания.
Непослушные ноги еле шли. Мне казалось, будто за эти несколько минут я отработал ещё одну полную смену на станции и прошёл пешком километров двадцать. Добравшись до остальных, я увидел, что они окружили Лассона и Меката на снегу полукругом. Последний действительно был невредим, но всё ещё сидел, опустив лицо. Подходя к ним, я бросил быстрый взгляд на кабину, через изрешечённое стекло которой трудно было что-то различить, хотя внутри и угадывались фигуры. Я старался не смотреть туда так же, как до этого мгновенно отвёл взгляд, проходя мимо лежащего в снегу тела.
Оказавшись рядом с остальными, я услышал вопрос Нанга:
— Что случилось?
Лассон молча оглядел всех нас со странным выражением лица и произнёс:
— У них были заложники.
Я пытался совладать со странным чувством. У меня не хватило духу взглянуть ни на одного мертвеца. Тем более я не стал заглядывать в кузов, где вместе с тремя мёртвыми бандитами всё ещё находились три тела рабочих с «Источника». Ещё один, как оказалось, был за рулём. В кузове же Вайша обнаружил своего родного брата. Когда до меня дошло, что́ сказал Виктор Лассон, мне показалось, в моей душе что-то произошло. Я чуть не задохнулся от нахлынувшего гигантской волной кошмара. Это были несколько секунд самого жуткого чувства в моей жизни. Словно где-то в глубине разверзалась бездна, быстро поглощавшая всё моё естество. Мне казалось, что даже в глазах потемнело, потому что я не мог сконцентрироваться на том, что происходит вокруг. Всё выглядело невероятно далёким.
Я даже никак не отреагировал, когда увидел, что Вайша вдруг подскочил и набросился на Лассона с криком: «Это всё ты! Это ты виноват!» Другим ребятам пришлось схватить врача, чтобы он не убил норвальдца в припадке ярости. Вайша сделал всего одну попытку вырваться, но тут же обмяк и в голос разрыдался. Всю эту сцену обволакивала тьма, словно разливавшаяся из меня повсюду.
Я не мог дышать, наблюдая это ужасающее наступление черноты, пока вдруг не ухватился за странную мысль, что за всё время я выпустил только одну пулю, которая, скорее всего, даже не попала по машине. Я начал повторять эту мысль про себя как заклинание или молитву, пока не перестал проваливаться в темноту. Но вместо тьмы пришёл стыд. В нём было что-то нелепо детское. Как будто я снова был маленьким и при мне другие дети расколотили дорогую вазу, а пришедшим на этот шум взрослым я первым делом кричу: «Я не виноват!»
Но я в любой день предпочту стыд, страх, позор, нелепость и что угодно тому бездонному кошмару, который за несколько секунд чуть не поглотил меня целиком. Осознанию, что я убил нескольких невиновных людей, убил наших же товарищей. Именно с этим кошмаром сейчас приходилось иметь дело всем остальным. Потому что их руки были тверды, они не путались, дёргая ручки затворов, они не прекращали стрелять, пока не решили, что все в этой машине мертвы.
В какой-то момент я даже почувствовал внезапное презрение и ненависть к остальным. Недавняя ярость Вайши словно наполнила и меня. Эмоции сменяли друг друга молниеносно. Одно стотонное чувство обрушивалось на меня, придавливало, пока его не вытесняло другое, такое же монументальное.
Снова взглянув на Вайшу, я уже не обнаружил и следа его недавней ненависти. Задыхаясь, он до краёв был переполнен горем. Никто здесь не был виновен в том, что произошло. Я сам оказался бы на месте других, если бы чуть лучше был подготовлен к сражению… Или правильней было сказать «к расстрелу»? Путанные чувства и мысли накатывали на меня волнами. Словно, спасаясь от бездны, я бежал по тёмному лесу, сталкиваясь то с одним огромным страшным уродливым деревом, то с другим. Каждое из них было моим чувством, и каждое вызывало свои вопросы. Мне нужно было подобрать правильные ответы, чтобы не прийти обратно и не упасть в эту черноту. И всё это время меня не отпускало странное чувство дежа вю.
Лакшамы верят в то, что наши жизни — это гигантский круг. Есть видимые и невидимые миры. Мы видим лишь тот мир, в котором живём сейчас. Умирая, мы перейдём в другой, который станет видимым, а прежний ускользнёт от нашего взора. Мы живём разные жизни в этих мирах, занимаемся абсолютно разным ремеслом, думаем и чувствуем по-разному. Являемся разными людьми. Но иногда в этом круговороте мы повторяем события прошлой жизни до каждой мельчайшей детали. Обстановка, окружающие люди, мысли и чувства изредка повторяются целиком и полностью, потому что мы уже прожили бесчисленное количество жизней. В эти моменты человек и испытывает это ощущение.
Конечно, в последние годы я стал считать всё это нелепыми суевериями, попыткой объяснить сбой в нашем восприятии реальности. Наука Норвальда уже пару десятилетий как дала гораздо более трезвую оценку этого состояния. Но всё же размышлять об этом отвлечённо было куда проще, чем переживать само чувство настолько ярко. Я отчётливо ощущал, что всё это со мной уже происходило. «Светлейшие» учили, что от жизни к жизни в нас меняется всё. Память обнуляется, внешность стирается, мы исчезаем полностью. Остаются лишь некие точки, самое естество человека, которое не может быть выражено простыми словами. Естество человека неизменно, а потому рано или поздно приводит его в ту же ситуацию, в которой он уже был. Универсального ответа на то, что это естество собой представляет, — ответа, который можно было бы воспринять, почувствовать или понять, — не существует. У каждого оно своё, поэтому и чувство дежа вю у каждого уникально. Светлейшие становились таковыми потому, что глубоко открывались этому опыту, отказывались от чужих объяснений и искали ответы в себе.
С одной стороны, я знал, что дежа