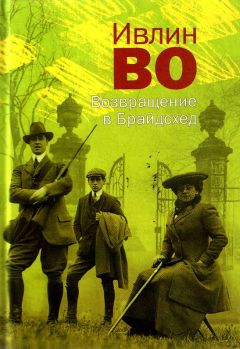— Я не понимаю, почему в возрасте двадцати двух или двадцати трех лет он вдруг стал членом политической партии. Откуда пробудился интерес к политике?
— А вы спрашивали его самого?
— Он сказал, что присоединился к партийной организации из-за вас. Якобы вы пришли и сагитировали его. Он почувствовал влечение к вам и поэтому последовал за вами — сначала в группу вербовщиков, а затем и в политику. Ему хотелось чаще видеться с вами. Я признаю, что мог бы изложить такую историю. И она могла бы быть правдой…
— А разве это не так?
— Вы сами знаете, что не так. Он был членом партии как минимум за год до вашей первой встречи.
— Неужели?
Рут наморщила лоб и сделала глоток из бокала с водой.
— Странно. Он всегда рассказывал эту историю, когда объяснял, по какой причине пошел в политику. Я почти не помню те лондонские выборы в семьдесят седьмом году. Мне действительно поручали агитировать людей и распространять листовки. Я постучала в его дверь, и после нашего знакомства он начал регулярно появляться на партийных собраниях. Так что здесь есть доля правды.
— Доля, — согласился я. — Возможно, он вступил в партию в семьдесят пятом году, пару лет не проявлял никакого интереса к политике, но, встретив вас, стал более активным. Хотя такая версия по-прежнему не дает ответа на основной вопрос: почему он вступил в партию.
— А это важно?
Деп вошла, чтобы забрать тарелки из-под супа. Во время паузы в беседе я обдумал реплику Рут. Когда мы снова остались одни, я продолжил поднятую тему:
— Как бы странно ни звучали мои слова, но подобные расхождения очень важны для меня.
— Почему?
— Потому что, несмотря на свою кажущуюся незначительность, они показывают, что ваш муж не тот, кем мы привыкли видеть его. Я даже не уверен, что он тот, кем сам себя считает. А это реальная проблема для меня, поскольку я пишу его мемуары. Я чувствую, что вообще не знаю Адама Лэнга. Я не могу уловить его характер.
Рут снова нахмурилась и нервно поменяла местами вилку и нож. Не поднимая головы, она спросила:
— Откуда вы узнали, что он вступил в партию в семьдесят пятом году?
На миг я испугался, что сказал ей слишком много. Но у меня не было причины скрывать от нее такую информацию.
— Майк Макэра нашел в кембриджских архивах членскую карточку Адама.
— Господи! — проворчала она. — Ох, уж эти архивы! В них собирается все, начиная от его школьных табелей успеваемости и кончая нашими счетами за стирку белья. И как это типично для Майка: разоблачить хорошую историю своими въедливыми поисками данных.
— Он нашел какие-то партийные документы, в которых говорится, что в семьдесят седьмом году Адам был сборщиком голосов.
— Наверное, это было после того, как он встретил меня.
— Возможно.
Судя по всему, мои слова обеспокоили ее. Дождь снова забарабанил по окну, и Рут приложила пальцы к толстому стеклу, словно хотела проследить бег капель. Блеск молнии превратил сад в подобие морского дна: качавшиеся ветви и серые стволы деревьев поднимались вверх, как рангоуты затонувших кораблей. Деп принесла главное блюдо — рыбу, сваренную на пару, с гарниром из лапши и каких-то бледно-зеленых растений, напоминавших сорную траву (возможно, это и была сорная трава). Я нарочито вылил остатки вина в мой бокал и осмотрел бутылку.
— Вы хотите еще, сэр? — спросила Деп.
— Вряд ли у вас найдется виски… Но, может быть, есть?
Экономка посмотрела на хозяйку.
— Принеси ему какое-нибудь виски, — сказала Рут.
Деп вернулась с бутылкой пятидесятилетнего «Chivas Regal Royal Salute» и приземистым фужером. Пока миссис Лэнг пробовала рыбу, я смешал виски с водой.
— Это восхитительно, Деп! — похвалила Рут.
Она промокнула рот уголком салфетки и с удивлением осмотрела следы помады на белой льняной ткани, словно испугалась, что у нее пошла кровь.
— Вернемся к вашей проблеме, — сказала она. — Мне кажется, вы ищете тайну там, где ее нет. Адам всегда переживал за духовное состояние общества. Он унаследовал это от матери. И я знаю, что, покинув Кембридж и переехав в Лондон, он чувствовал себя несчастным. Я могла бы сказать, что он был клинически депрессивным.
— Клинически депрессивным? Он лечился от этого? Действительно?
Я старался сдерживать возбуждение в голосе. Если Рут говорила правду, то ее откровения были лучшей находкой дня. Ничто так хорошо не содействует продаже мемуаров, как солидная доза страданий. Детские сексуальные насилия, тяжелая бедность, квадриплегия:[33] в опытных руках все это превращалось в звонкую монету. В книжных магазинах можно было бы создать отдельную секцию с названием Schadenfreude[34].
— Поставьте себя на его место.
Рут, жестикулируя вилкой, продолжала лакомиться рыбой.
— Родители Адама умерли. Он оставил университет, который ему нравился. Многие его друзья по театру обзавелись агентами и получили неплохую работу. А он ничего не имел. Я думаю, он чувствовал себя потерянным человеком и в качестве компенсации обратился к политической деятельности. Вряд ли Адам использовал такие термины — он не любитель самоанализа. Но, мне кажется, так все и случилось. Вы удивились бы тому, как много людей уходят в политику лишь потому, что они не обрели успеха в первоначальном выборе карьеры.
— Значит, встреча с вами была для него очень важным моментом.
— Почему вы так говорите?
— Потому что вы имели подлинную страсть к политике. Знание темы. Контакты в партийной организации. Вы вывели его на правильный путь и помогли ему возглавить партию.
Мне казалось, что туман начинал проясняться.
— Вы не против, если я запишу эту мысль?
— Валяйте, раз считаете, что она вам пригодится.
— Возможно, пригодится.
Я отложил в сторону нож и вилку. На самом деле мне не понравились сорняки и разваренная рыба. Я достал блокнот и открыл его на чистой странице. Мне не составило труда поставить себя на место Лэнга. В мои юношеские годы я тоже был сиротой — одиноким, амбициозным, талантливым (хотя и не настолько). Я тоже искал свой путь жизни. А Лэнг после нескольких робких шагов в политике встретил женщину, которая внезапно сделала возможным фантастическое будущее.
— Ваш брак стал для него поворотным моментом.
— Я определенно отличалась от его кембриджских подруг — всех этих Джокаст и Пандор. Даже в юности политика интересовала меня больше, чем цветы или пони.
— А вам когда-нибудь хотелось стать настоящим политиком? — спросил я.
— Конечно. А вам когда-нибудь хотелось стать настоящим писателем?
Это было похоже на пощечину. Кажется, я даже отложил свой блокнот.
— Хм…
— Извините. Я не хотела быть грубой. Но вы должны понять, что мы с вами в одной лодке. Я всегда разбиралась в политике лучше Адама. И вы тоже талантливее его в написании книг. Но, в конечном счете, он был и останется звездой, не так ли? И нам обоим известно, что мы просто служим этой звезде. На книге, которую купит читатель, будет стоять его имя — его, а не ваше. То же самое можно сказать и обо мне. Я быстро поняла, что он может дойти до вершин политики. Адам имел харизму и очарование. Он был великолепным оратором. Он нравился людям. А я всегда смотрелась гадким утенком или вела себя бестактно, как слон в посудной лавке — что сейчас и продемонстрировала в отношении вас.
Она вновь положила ладонь на мою руку. Ее пальцы теперь были теплыми и более женственными.
— Еще раз прошу прощения. Я обидела ваши чувства. Наверное, даже у «призраков» есть амбиции, как и у других людей.
— Если вы уколете меня вилкой, то из тела пойдет кровь, — пошутил я.
— Вы уже закончили ужинать? В таком случае покажите мне те документы, которые отыскал в архивах Майк. Возможно, они освежат мои воспоминания. Любопытно было бы взглянуть на них.
* * *
Я спустился в мою комнату и вытащил пакет Макэры из-под матраца. Когда я вернулся в гостиную, Рут переместилась на софу. В камине трещали свежие поленья, и ветер в дымовой трубе ревел, поднимая вверх оранжевые искры. Деп наводила порядок на столе. Я едва успел забрать у нее мой фужер и бутылку виски.
— Хотите десерт? — спросила Рут. — Или кофе?
— Нет, спасибо.
— Деп, мы закончили. Благодарю.
Она слегка передвинулась на край софы, указав мне на место рядом с собой. Я притворился, что не заметил приглашения, и занял кресло напротив нее. Меня терзала обида от «пощечины» Рут, поскольку в глубине души я все-таки считал себя писателем.
Хорошо, пусть я им не был. Это верно, что я не сочинял поэзию, не писал чувственной юношеской лирики и не копался в нюансах человеческой психики, благоразумно не желая изучать ее слишком пристально. Я рассматривал себя как литературный аналог умелого слесаря или кустаря, плетущего корзины — возможно, гончара, лепившего завлекательные поделки, которые нравились людям.