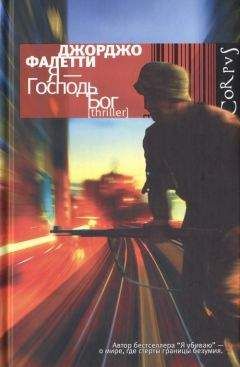– Держу пари, вы всегда выигрываете пари.
– Ваше волнение вполне естественно. Миссис Уилсон, дайте ей успокоительное.
– Если можно, лучше не надо.
– Медицинские предписания не терпят демократии, госпожа комиссар. Я считаю, что лучше надо, а вы извольте выполнять.
Ему в поддержку раздался голос матери:
– Прошу тебя, Морин, не спорь с доктором.
Морин услышала новые шаги. Сестра вложила ей в руку пластиковый стаканчик с таблеткой и такой же стаканчик с водой. Потом помогла выпить лекарство. В голосе Роско послышалось удовлетворение.
– Вот и отлично. Миссис Уилсон, будьте добры, опустите жалюзи и прикрутите до упора лампу у меня на столе.
С негромким шумом профессор придвинул к ней стул.
– Что ж, поглядим, что мы тут натворили.
Взяв ее за подбородок, он чуть приподнял ей голову, потом две умелые руки начали отлеплять пластыри с бинтов.
Один…
ГосподипомилуйГосподипомилуйГосподипомилуй…
…второй.
ГосподипомилуйГосподипомилуйГосподипомилуй…
Морин ощутила свободу и свежее дуновение на вспотевших веках. Время будто остановилось. Морин казалось, что весь мир столпился у окна и смотрит на то, как судьба играет человеком в этом кабинете.
– Так, дитя мое, теперь медленно откройте глаза.
Морин повиновалась.
ГосподипомилуйГосподипомилуйГосподипомилуй…
И снова увидела тьму.
Сердце, как бешеное, колотилось в груди, словно предвещая свою окончательную остановку.
Потом темноту внезапно прорезал свет, и она разглядела фигуру и мужские руки на уровне своего лица. Но только на миг. Чудесный свет как вспыхнул, так и потух, словно перед глазами прокрутили назад кинопленку.
И вновь осталась чернота перед глазами и в душе. Морин почувствовала, как из пересохшего рта вылетели бездыханные слова:
– Я ничего не вижу.
Но ей отозвался спокойный, обнадеживающий голос профессора Роско:
– Потерпите. Это естественно. Глаза должны привыкнуть к свету.
Морин опять сомкнула веки, поежившись от неприятного жжения, будто в глаза насыпали песку.
А когда снова открыла их, то увидела дивный рассвет мира. Озаренный нежно-розовым светом кабинет, человека в белом халате, склонившееся над ней уже знакомое лицо, цветовое пятно картины на стене, благословенный абажур лампы на письменном столе, рыжеволосую сестру в глубине комнаты, мать в безукоризненно пошитом синем костюме, сияющие надеждой глаза отца и его неизменный фирменный галстук. И тогда Морин позволила пролиться скупым слезам радости.
Человек в белом халате улыбнулся ей и наконец-то подал голос, обретший лицо:
– Ну как?
Она секунду помолчала, осознавая, что глухие удары в ушах на самом деле исходят из ее груди. Потом улыбнулась ему в ответ.
– Профессор, вам уже говорили, какой вы красавец?
Уильям Роско поднялся и отступил от нее на шаг.
На загорелом лице появилась ироническая усмешка.
– Много раз, Морин, много раз. Но впервые женщина сказала мне это, после того как я ее вылечил. Обычно, взглянув на меня, они такого уже не говорят. И все же кое-какие достижения дают мне повод обольщаться на свой счет.
Мэри Энн Левалье и Карло Мартини молчали, видимо не понимая этого диалога. А когда смысл, наконец, дошел до них, бросились обнимать дочь, не замечая, что обнимают и друг друга.
Морин растроганно глядела на них. Детская сказка на сей раз стала былью. Она поцеловала жабу, и та у нее на глазах превратилась в прекрасного принца.
– Друзья мои, позвольте мне после вполне понятного излияния чувств продолжить работу.
Роско разнял сплетение шести рук и протянул свою руку Морин.
– Я должен вас как следует осмотреть. Медленно вставайте. Возможно, вы ощутите легкое головокружение после долгой слепоты.
С его помощью она прошла в глубь кабинета, уставленного разнообразным оборудованием. Он усадил ее на табурет перед каким-то прибором и поместил на специальную подставку ее подбородок.
– Не волнуйтесь. Это немного неприятно, но не больно.
Роско сел перед ней и начал дотошный осмотр, состоявший из голубоватых вспышек и прикосновений каких-то инструментов к глазам, что вызывало легкое жжение и естественную слезоточивость.
– Очень хорошо. Превосходно.
Роско встал и помог ей выйти из этого научно-фантастического положения.
– Как я уже говорил, вам придется какое-то время ходить в темных очках. Дискомфорт, который вы сейчас ощущаете, постепенно пройдет. Миссис Уилсон даст вам антибиотик в каплях – их надо будет закапывать строго по моему предписанию. Никакого компьютера, телевизор в минимальных дозах. Постарайтесь не переутомляться, спите как можно больше, через неделю ко мне на осмотр. В зависимости от того, как пойдет реабилитация, мы назначим время повторного введения клеток.
Он раскинул руки в жесте, напоминающем цирковое «алле-гоп» после выполнения двойного сальто-мортале.
– Пока все, господа. Не смею больше задерживать.
Во время прощально-благодарственного ритуала Морин улучила момент, чтобы запечатлеть в памяти облик профессора Уильяма Роско. Высокий, сантиметров на десять выше нее, черты некрасивые, но притягательные, чуть посеребренные виски, здоровый цвет лица, как у человека, много времени проводящего на открытом воздухе. Она бы не удивилась, если бы увидела его сухощавую фигуру за штурвалом яхты. Ко всему прочему, он остроумен, общителен и умеет заразительно улыбаться.
Втроем они вышли из кабинета. Обратный путь стал для Морин незабываемым зрелищем. Бледно-зеленый кафель больницы «Святой веры» показался ей мозаиками Пьяцца-Армерины;[7] солнце, встретившее ее на улице, ничем не уступало светилу Мальдивских островов, а водитель лимузина оказался ничем не примечательным, кроме странноватого русского акцента, человеком средних лет.
Она сердечно расцеловалась с отцом, который теперь мог с легким сердцем вернуться в Рим. Путь до Парк-авеню стал настоящей экскурсией. Мэри Энн Левалье хранила молчание, видя, как жадно впитывает дочь все краски, формы, жесты вновь обретенным зрением. Морин казалось, что она видит шум уличного движения и запахи Бауэри; электронные часы на Юнион-сквер представились ей шедевром искусства, а вовсе не данью времени, Центральный вокзал с поездами, отходящими неведомо куда, – вместилищем магических обрядов.
В квартире их со слезами радости на глазах встретила Эстрелла и принялась ходить по пятам, словно Морин до сих пор был нужен поводырь. Наконец, она попросила горничную опустить жалюзи и оставить ее одну.
Она не разделяла вкусов матери в отношении обстановки, но теперь полутемная комната поразила ее своим великолепием. Напряжение отпустило, и она почувствовала страшную усталость. Еле нашла в себе силы опуститься на кровать и сбросить туфли. Потом прилегла и решила на минуту-другую отступить от предписаний после долгого слушания безликих голосов по радио.
Взяв пульт телевизора, она включила канал новостей.
– Продолжается следствие по делу об убийстве единственной наследницы стальных магнатов Шандели Стюарт, чей труп был обнаружен два дня назад в ее аттике Стюарт-Билдинг на Сентрал-Парк-Уэст…
На экране появилось размытое изображение темноволосой женщины с заостренными чертами лица. В жестких контурах рта угадывалось нечто плотоядное.
– Несмотря на сдержанные высказывания властей, нам из достоверных источников стало известно, что это преступление тесно связано с гибелью Джеральда Марсалиса, больше известного как Джерри Хо, художника и сына мэра, который был убит в своей студии три недели назад. В ходе пресс-конференции…
Слова диктора потонули в лимбе, откуда только что вынырнула Морин. Возникшее на экране лицо мгновенно стерло все приятные ощущения, дарованные последним часом.
Это лицо было ей знакомо.
Именно этот человек внушил ей неестественное чувство обладания мужскими гениталиями; именно эту жестокую ухмылку кровавого демона показало ей потустороннее зеркало ванной во время утренней галлюцинации.
Такси остановилось в глубине парка Карла Шурца, напротив Грейси-Мэншн. Заплатив по счету водителю в тюрбане, который, похоже, в жизни не ел ничего, кроме чеснока, Морин со вздохом облегчения вышла из машины и двинулась по асфальтированной аллейке, что вела к официальной резиденции мэра Нью-Йорка. Справа доносились крики детишек, игравших в небольшом парке. Вот эту площадку со скульптурой Питера Пэна в центре она сотни раз видела в кино. Ей подумалось, что, по сути дела, весь Нью-Йорк – гигантская съемочная площадка; его достопримечательности столько раз виданы на экране, что вживую на них и смотреть уже не хочется.