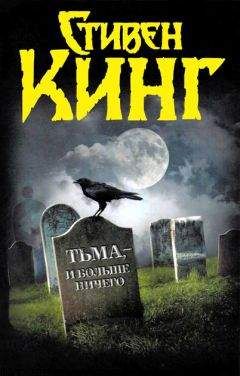украшать к Рождеству, шериф Джонс вновь приехал на ферму. Одного взгляда на его лицо хватило, чтобы я понял, с какими он прибыл новостями, и замотал головой:
– Нет! Нет, хватит! Я этого не вынесу. Просто не вынесу. Уезжайте.
Я ушел в дом и попытался закрыть дверь перед его носом, но разве мог однорукий и ослабевший человек противостоять ему? Конечно же, Джонс легко сломил мое сопротивление и вошел.
– Крепись, Уилф. Ты с этим справишься. – Как будто он знал, о чем говорил.
Шериф достал из буфета декоративную керамическую пивную кружку, нашел почти пустую бутылку виски, вылил все, что в ней оставалось, и протянул кружку мне:
– Доктор не одобрит, но его здесь нет, а тебе это потребуется.
«Влюбленных бандитов» нашли в их последнем укрытии, Шеннон, погибшую от пули повара-раздатчика, и Генри – от пули, которую он пустил себе в голову. Тела перевезли в морг Элко до поступления дальнейших инструкций. Харлан Коттери распорядился относительно того, что касалось его дочери, но не моего сына. Понятное дело. Своим сыном я занимался сам. Он прибыл в Хемингфорд на поезде восемнадцатого декабря. Я ждал его на станции вместе с похоронным агентом из «Кастингс бразерс». Меня то и дело фотографировали. Мне задавали вопросы, на которые я даже не пытался отвечать. В «Уорлд гералд» и в гораздо более скромной «Хемингфорд уикли» подпись под опубликованными фотоснимками дали одинаковую: «СКОРБЯЩИЙ ОТЕЦ».
Если бы репортеры увидели меня в похоронном бюро, когда там сняли крышку с простого соснового гроба, их глазам открылось бы настоящее горе, и они изменили бы подпись на «КРИЧАЩИЙ ОТЕЦ». Мой сын выстрелил себе в висок, когда сидел, положив на колени голову Шеннон. Пуля пронзила мозг и вышла с левой стороны, оторвав немалый кусок черепа. Но это было не самое худшее. Генри лишился глаз. И нижняя губа исчезла, так что зубы торчали наружу. И от носа осталась только красная дыра. Прежде чем кто-то из дорожной полиции или какой-нибудь помощник шерифа нашел тела, крысы отменно закусили моим сыном и его возлюбленной.
– Приведи его в порядок, – попросил я Герберта Кастингса, когда вновь обрел способность говорить связно.
– Мистер Джеймс… сэр… повреждения…
– Я вижу, какие тут повреждения. Приведи его в порядок. И достань из этого говенного ящика. Положи в лучший гроб, который только у тебя есть. Мне без разницы, сколько это будет стоить. Деньги у меня есть. – Я наклонился и поцеловал порванную щеку. Ни один отец не должен целовать сына в последний раз, но если какой-нибудь отец и заслужил такую жуткую судьбу, так это я.
Шеннон и Генри похоронили на кладбище методистской церкви Славы Господней. Шеннон – двадцать второго декабря, Генри – на Рождество. Отпевали Шеннон в набитой до отказа церкви, и от громкого плача едва не снесло крышу. Я тоже пришел на короткое время. Постоял в задних рядах, никем не замеченный, и ушел, не дослушав преподобного Терсби. Преподобный Терсби произнес прощальное слово и на похоронах Генри, но нет необходимости говорить вам, что народу в церковь пришло гораздо меньше. Терсби видел только одного человека, однако рядом со мной сидела Арлетт, никому не видимая, улыбающаяся, нашептывающая мне на ухо: Тебе нравится, как все обернулось, Уилф? Дело того стоило?
Расходы на подготовку похорон, на предание тела сына земле, на оплату услуг морга и перевозку составили чуть больше трехсот долларов. Я заплатил из денег, полученных под закладную. А что еще я мог сделать? После погребения я вернулся в пустой дом. Но по пути купил бутылку виски.
Напоследок 1922 год преподнес мне еще одну неприятность. В день после Рождества мощный буран пришел со стороны Скалистых гор. Выпало до фута снега, ветер достигал ураганной силы. С наступлением темноты снег перешел в ледяной дождь, потом просто в дождь. Около полуночи, когда я сидел в темноте и успокаивал ноющую культю маленькими глотками виски, с задней стороны дома донесся громкий треск – провалилась крыша, на починку которой я взял деньги под закладную. Когда холодный ветер стал обдувать плечи, я принес из раздевалки полушубок, надел, вновь уселся в кресло и выпил еще виски. В какой-то момент задремал. Очередной треск разбудил меня около трех часов ночи. На этот раз обрушилась передняя часть амбара. Ахелоя пережила и это, и на следующую ночь я завел ее в дом. «Почему?» – спросите вы меня, и я отвечу: «Почему нет?» Только мы на ферме и выжили. Только мы и выжили.
Утром (я провел его в холодной гостиной, в компании единственной оставшейся в живых коровы) я пересчитал оставшиеся деньги и понял, что их не хватит на восстановление урона, нанесенного бурей. Меня это особенно не взволновало, потому что я потерял всякий интерес к жизни на ферме, но мысль о «Фаррингтон компани», строящей свинобойню и загрязняющей реку, все еще заставляла меня скрипеть зубами от ярости. Слишком высокую цену я заплатил, чтобы компании не достались эти трижды проклятые акры.
Внезапно меня осенило: раз Арлетт официально признана мертвой, а не без вести пропавшей, унаследованные ею акры теперь принадлежат мне. Двумя днями позже я зажал гордость в кулак и пошел к Харлану Коттери.
Мужчина, который открыл мне дверь, выглядел лучше, чем я, но прошедший год сказался и на нем. Он похудел, облысел и теперь вышел ко мне в жеваной рубашке, хотя складок на ней было меньше, чем морщин на лице, и все они убирались глажкой. В свои сорок пять он выглядел на двадцать лет старше.
– Не бей меня, – сказал я, увидев, что его пальцы сжались в кулаки. – Сначала выслушай.
– Я никогда не ударю однорукого мужчину, – ответил он, – но буду тебе благодарен, если наш разговор не затянется. И говорить мы будем на крыльце, потому что больше ноги твоей в моем доме не будет.
– Как скажешь, – ответил я. Я тоже похудел – очень даже – и дрожал на ветру, но холодный воздух благотворно сказывался на культе и невидимой кисти, в которую она, как мне все еще казалось, переходила. – Я хочу продать тебе сто акров хорошей земли, Харлан. Те самые, которые Арлетт настроилась продать «Фаррингтон компани».
Он улыбнулся, глаза, теперь глубоко заваленные, сверкнули.
– Наступили тяжелые времена, так? Половина твоего дома и половина амбара завалились. Герми Гордон говорит, что корова живет теперь в твоем доме.
Герми Гордон, наш сельский почтальон, был известным сплетником.
Я назвал цену такую низкую, что у Харлана отвисла челюсть, а брови взлетели вверх. Именно тогда до моих ноздрей долетел запах, идущий из всегда чистенького и ухоженного сельского дома Коттери, который совершенно не вязался с этим домом: запах подгоревшей еды. Видно, Салли Коттери сама больше не готовила. Когда-то это наверняка заинтересовало бы меня, но