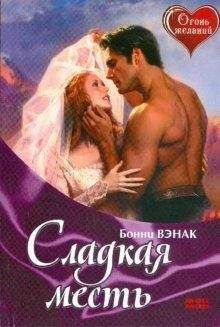Из таких деликатных для себя ситуаций он всегда выкарабкивался бочком, как краб, хотя в других случаях проявлял упорство, стремился прорваться там, где другие пробирались, крадучись на цыпочках. Я до сих пор убежден, что в годы формирования своего характера он оставался идеалистом и в глубине души лелеял мечту о женщине своих детских грез, о целомудрии и красоте.
Сейчас, вспоминая прошлое, я понимаю, что он жил в каком-то придуманном мире и в конце концов запутался. В любой новой аудитории Генри повторял свои байки, ярко раскрашенные, как языческие идолы, — так сильно было его желание произвести выгодное впечатление. В разгар нашей дружбы эти его причуды скорее забавляли, чем раздражали меня, и я их охотно ему прощал. Я всегда оставался в тени, и если даже мне что-то претило, старался держать свое мнение при себе. Некоторым наша дружба казалась странной: своей бравадой он часто отталкивал от себя людей, и им трудно было понять, что нахожу я в нем. Но кто в таком случае объяснит, почему притягиваются противоположности, а разные по характеру и потому дополняющие друг друга супруги бывают счастливы, как, например, Лорел и Харди.[6] Задним числом я теперь понимаю, что рядом с Генри имел некую ложную, вторичную славу. Не разделяя его жизненной философии, я все же восхищался некоторыми его чертами. Не исключено, что во многом жизнь его была позой, но, в конце концов, у кого это не так? Мы все предпочитаем выдумывать про себя то одно, то другое; если бы нам приходилось признавать все свои грехи, жизнь стала бы невыносимой. Я не мог припереть Генри к стенке по части достоверности его рассказов о предках, а со своим нарождающимся художественным чутьем даже считал эту историю очаровательной. Вот запись из моего дневника тех лет, говорящая обо мне не меньше, чем о Генри.
«Сегодня вечером Г. особенно терпелив. Хорошо бы избавить его от необходимости все время производить на меня впечатление. Он мне нравится ровно настолько, чтобы терпеть его предрассудки, но не настолько, чтобы развешивать их у себя дома по стенкам. Я знаю, что почти все считают Генри надоедливым болтуном, но они не видят его второй стороны. По сути дела, он просто боится обнаружить свои настоящие чувства. Временами наша дружба готова дать трещину, и тогда его внезапно переполняет раскаяние и великодушие, что так трогательно. К. уже надоел мне своими намеками. Послушать его, так Генри — волк в овечьей шкуре. Мы едва не подрались из-за этого. К. и ему подобные хотят, чтобы все мыслили как они, и представить себе не могут, что наша дружба с Г. совершенно свободна. Будь у него такие наклонности, я первый это заметил бы».
К чему Генри имел стойкую привязанность, так это к богатству. С профессиональным усердием он изучал секреты людей, которые им обладали. Уверен, именно это побудило его выбрать в качестве первой карьеры торгово-банковское дело. Полагая, что очень богатые люди наделены некоторыми мистическими способностями, он часто закрывал глаза на их вопиющую безвкусицу. Генри так сильно влекло к богачам, что это сказалось на нашей дружбе. Он ездил на охоту, раза два даже на псовую. Охоту я ненавидел. Впрочем, он и сам говорил, что видит в ней лишь средство для достижения цели. На днях я раскопал старый номер «Татлер» с фото, на котором Генри блистал в красном охотничьем камзоле среди гогочущих тупых физиономий — картинка из Брайдсхеда, куда он, по счастью, никогда не возвращался.[7] Когда он впервые попал в парламент, пошли слухи, что он получит высокий пост. Но почему-то его звезда так и не взошла — видимо, потому, что он был чересчур яркой личностью: тори очень неохотно продвигают одаренных и вовремя окорачивают тех, кто может поколебать статус-кво. Видимо, именно тогда Генри впервые понял, что его обаяние не способно открыть ему все двери. Другие, из того же теста, что и он, относились к его притязаниям куда менее терпимо, чем я. Если же он не мог завоевать какую-то территорию, то быстро ретировался, ибо не выносил, когда его отвергали.
И все же временами я попадал под столь сильное влияние его личности, сложной и загадочной, что, казалось, любил его, и эта любовь целиком меня поглощала, хотя в ней не было сексуальности. Такого рода друзья нужны каждому, чтобы время от времени их предавать и чтобы они в свою очередь нас предавали.
На следующее утро Билл находился в состоянии легкого похмелья, и мы с ним пили на террасе кофе эспрессо, после чего вся наша компания отправилась на катере на первое заседание конференции. Организаторы, люди в высшей степени интеллектуальные, выбрали для его проведения Ка-Санудо — дом, в котором в шестнадцатом веке жил автор знаменитых дневников. На заседании мы дебатировали по поводу судьбы южноамериканских писателей при диктаторских режимах. Основной докладчик, сотрудник «Эмнести интернэшнл», прочел часовую обвинительную речь, подкрепив ее несколькими жуткими слайдами; затем последовали вопросы и ответы. Создавшаяся ситуация казалась несколько забавной. Мы сидели, упакованные в свои академические свободы, и слушали рассказы о том, как преследуют, мучают и убивают наших далеких коллег. Резолюция и заявление для печати были приняты единогласно, и все прониклись чувством исполненного долга; я же, не в силах избавиться от ощущения лживости этой акции, в конце концов почувствовал отвращение к самому себе.
В таком настроении я пребывал в течение всего ленча, которым нас потчевали на острове Торчелло. Потом, чтобы растрястись после обильной трапезы, многие из нас отправились осматривать старую церковь. В ларьках торговали бельем и туристской мишурой. Билл остановился в раздумье, что бы такое купить в подарок жене. И тут я вновь с изумлением увидел старого щеголя из аэропорта. На этот раз его сопровождал зрелый мужчина в черном костюме особого итальянского покроя, хорошо известном по фильмам о крестном отце и потому казавшемся каким-то зловещим. На старикане же был все тот же кремовый костюм, и вместе они составляли этакий этюд в контрастных тонах. Они прошли совсем близко, мы даже встретились взглядами, но, судя по всему, он меня не узнал. Я вдруг почувствовал что-то недоброе, и у меня, должно быть, изменилось лицо, потому что Билл спросил:
— Ты в порядке?
— Вполне.
— А выглядишь так, будто тебя вытащили из могилы.
— Перебрал граппы, — сказал я.
Мне суждено было увидеть старого денди еще раз, когда мы возвращались на катере. Он стоял у витых чугунных ворот большой виллы и, кажется, спорил о чем-то с мужчиной в черном костюме. На этот раз он точно меня заметил, потому что развернулся ко мне спиной, когда я приблизился.
На обратном пути в Венецию все вели себя как на экскурсии. Достали фотоаппараты и кинокамеры, а некоторые — даже видеокамеры. Еще во время ленча я заметил, что Билл изучает какую-то инструкцию; теперь он всю дорогу вертел в руках свой «Никон» с телеобъективом, пытаясь снимать одиноких чаек на бакенах, но катер двигался слишком быстро.
— Черт возьми, — бормотал он, — эта сволочь никак не держится в фокусе.
— Старайся панорамировать, — посоветовал я (это был предел моих знаний о фотосъемке). — И обопрись, а то все смажется.
Вдруг я заметил нечто странное. Впереди и чуть в стороне от нашего курса вблизи одинокого бакена низко кружились и ныряли в воздухе чайки. Рыбаков поблизости не было, но что-то взбудоражило птиц.
— Ну-ка, дай мне аппарат на минутку.
Я взял камеру и нажимал на кнопку самонаведения, пока удаленный бакен не оказался в фокусе. В воде я различил предмет неопределенной формы, бившийся о бакен, когда до него доходила волна от нашего катера, однако от низкого солнца на объектив ложились блики, и разглядеть что-либо было трудно. Тогда я взял более крупный план; увиденное меня насторожило.
— Эй, кто-нибудь, скажите, чтобы он затормозил, — крикнул я. — Там, кажется, тело в воде.
Кто-то из группы быстро затараторил по-итальянски, водитель заглушил мотор, и нас поднесло ближе к бакену. Я оказался прав — это было тело. Капитан подвел катер прямо к утопленнику. Водитель забросил «кошку» и втащил тело на палубу. Моя немецкая подруга вдруг вскрикнула и зажмурилась. Когда толпа отпрянула, я с ужасом увидел, что передо мной та самая девушка, которую Генри целовал в аэропорту. Ее голова как-то неестественно запрокинулась, горло было перерезано, а обескровленное тело вспорото, как у потрошеной рыбы.
Я был вынужден сделать заявление для итальянской полиции, хотя не мог им сказать ничего, кроме того, что видел эту девушку дважды в компании старика в кремовом льняном костюме. Мне казалось в тот момент слишком сложным и даже бессмысленным рассказывать еще и о моей мнимой встрече с Генри. Правда, я описал им молодого человека в майке, правившего моторной лодкой, и именно он, а не старый щеголь заинтересовал их больше всего. На теле девушки не нашли ничего, что помогло бы ее опознать, среди пропавших также не числилось никого похожего. Не будь она очевидной жертвой убийства, наверняка пополнила бы картотеку неопознанных туристов, погибших при трагических обстоятельствах.