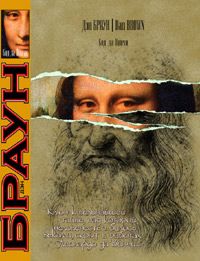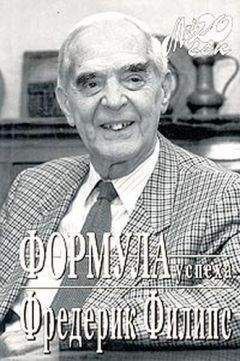– Я так понимаю, – сказал Лэнгдон, – это в Американском университете Парижа вам сообщили, что я остаюсь?
Водитель покачал головой:
– Нет. В Интерполе.
Ах, ну да, конечно. Интерпол, подумал Лэнгдон. Он совершенно забыл о том, что невинное требование предъявлять при регистрации в европейских отелях паспорт не было простой формальностью. То было веление закона. И этой ночью сотрудники Интерпола имели полное представление о том, кто где спит по всей Европе. Найти Лэнгдона в «Ритце» не составляло труда, у них на это ушло секунд пять, не больше.
«Ситроен», прибавив скорость, мчался по городу в южном направлении, вот вдалеке и чуть справа возник устремленный к небу силуэт Эйфелевой башни с подсветкой. Увидев ее, Лэнгдон вспомнил о Виттории. Год назад они дали друг другу шутливое обещание, что каждые шесть месяцев будут встречаться в каком-нибудь романтичном месте земного шара. Эйфелева башня, как подозревал Лэнгдон, входила в этот список. Печально, но они расстались с Витторией в шумном римском аэропорту, поцеловались и с тех пор больше не виделись.
– Вы поднимались на нее? – спросил агент.
Лэнгдон удивленно вскинул брови, не уверенный, что правильно его понял.
– Простите?
– Она прекрасна, не так ли? – Агент кивком указал на Эйфелеву башню. – Поднимались на нее когда-нибудь?
– Нет, на башню я не поднимался.
– Она – символ Франции. Лично я считаю ее самим совершенством.
Лэнгдон рассеянно кивнул. Специалисты в области символики часто отмечали, что Франции, стране, прославившейся своим воинствующим феминизмом, миниатюрными диктаторами типа Наполеона и Пипина Короткого, как-то не слишком к лицу этот национальный символ – эдакий железный фаллос высотой в тысячу футов.
Вот они достигли перекрестка с рю де Риволи, где горел красный, но «ситроен» и не думал останавливаться или замедлять ход. Агент надавил на газ, автомобиль пронесся через перекресток и резко свернул к северному входу в прославленный сад Тюильри, парижскую версию Центрального парка. Многие туристы неверно переводят название этого парка, Jardins des Tuileries, почему-то считая, что назван он так из-за тысяч цветущих там тюльпанов. Но в действительности слово «Tuilenes» имеет совсем не такое романтическое значение. Вместо парка здесь некогда находился огромный котлован, из которого парижане добывали глину для производства знаменитой красной кровельной черепицы, или tuiles.
Они въехали в безлюдный парк, и агент тотчас сбросил скорость и выключил сирену. Лэнгдон жадно вдыхал напоенный весенними ароматами воздух, наслаждался тишиной. В холодном свете галогенных ламп поблескивал гравий на дорожках, шины шуршали в усыпляющем гипнотическом ритме. Лэнгдон всегда считал сад Тюильри местом священным. Здесь Клод Моне экспериментировал с цветом и формой, став, таким образом, родоначальником движения импрессионистов. Впрочем, сегодня здесь была другая, странная аура – дурного предчувствия.
«Ситроен» свернул влево и двинулся на восток по центральной аллее парка. Обогнул круглый пруд, пересек еще одну безлюдную аллею, и впереди Лэнгдон уже видел выход из сада, отмеченный гигантской каменной аркой.
Arc du Carrousel[7].
В древности под этой аркой совершались самые варварские ритуалы, целые оргии, но почитатели искусства любили это место совсем по другой причине. Отсюда, с эспланады при выезде из Тюильри, открывался вид сразу на четыре музея изящных искусств… по одному в каждой части света.
Справа, по ту сторону Сены и набережной Вольтера, Лэнгдон видел в окошко театрально подсвеченный фасад старого железнодорожного вокзала, теперь в нем располагался весьма любопытный Музей д'Орсе. А если посмотреть влево, можно было увидеть верхнюю часть грандиозного ультрасовременного Центра Помпиду, где размещался Музей современного искусства. Лэнгдон знал, что за спиной у него находится древний обелиск Рамсеса, вздымающийся высоко над вершинами деревьев. Он отмечал место, где находился музей Жё-де-Пом.
И наконец впереди, к востоку, виднелись через арку монолитные очертания дворца времен Ренессанса, где располагался, наверное, самый знаменитый музей мира – Лувр.
В который уже раз Лэнгдон испытал чувство изумления, смешанного с восторгом. Глаз не хватало, чтоб обозреть разом все это грандиозное сооружение. Огромная площадь, а за ней – фасад Лувра, он вздымался, точно цитадель, на фоне парижского неба. Построенное в форме колоссального лошадиного копыта здание Лувра считалось самым длинным в Европе, по его длине могли бы разместиться целых три Эйфелевы башни. Даже миллиона квадратных футов площади между крыльями этого уникального сооружения было недостаточно, чтобы как-то преуменьшить величие фасада. Как-то раз Лэнгдон решил обойти Лувр по периметру и, к своему изумлению, узнал, что проделал трехмильное путешествие.
Согласно приблизительной оценке, на внимательный осмотр 65 300 экспонатов музея среднему посетителю понадобилось бы пять недель. Но большинство туристов предпочитали беглый осмотр. Лэнгдон шутливо называл это пробежкой по Лувру: туристы бодрым шагом проходили по залам музея, стремясь увидеть три самых знаменитых экспоната: Мону Лизу, Венеру Mилосскую и Нику – крылатую богиню победы. Арт Бyxвaльд[8] как-то хвастался, что на осмотр этих шедевров ему понадобилось всего пять минут и пятьдесят шесть секунд.
Водитель достал радиопереговорное устройство и произнес по-французски:
– Monsieur Langdon est arrive. Deux minutes[9]. В ответ пролаяли что-то неразборчивое.
Агент убрал устройство и обернулся к Лэнгдону:
– Вы встретитесь с капитаном у главного входа. Водитель, проигнорировав знаки, запрещавшие въезд на площадь, прибавил газу, «ситроен» перевалил через парапет. Теперь был уже виден главный вход в Лувр, фронтон здания величественно вырастал впереди, в окружении семи треугольных бассейнов, из которых били фонтаны с подсветкой.
La Pyramide.
Новый вход в парижский Лувр стал почти столь же знаменитым, как и сам музей. Его украшала модернистская стеклянная пирамида, созданная американским архитектором китайского происхождения И. М. Пеем, вызывавшая негодование у традиционалистов. Они полагали, что это сооружение разрушает стиль и достоинство Ренессанса. Гете называл архитектуру застывшей музыкой, и критики Пея прозвали пирамиду скрипом ногтя по классной доске. Продвинутые же поклонники считали прозрачную, высотой в семьдесят один фут пирамиду поразительны сплавом древней традиции и современных технологий, символическим связующим звеном между прошлым и настоящим. И были убеждены, что украшенный таким образом Лувр займет достойное место в третьем тысячелетии.
– Вам нравится наша пирамида? – спросил агент. Лэнгдон нахмурился. Похоже, французы просто обожают задавать американцам такие вопросы. Вопрос, конечно, с подковыркой. Стоит признать, что пирамида нравится, и тебя тотчас же причислят к не имеющим вкуса американцам. Сказать, что не нравится, значит обидеть французов.
– Миттеран был человеком смелым и прямолинейным, – дипломатично ответил Лэнгдон.
Говорили, что этот покойный ныне президент Франции страдал так называемым фараоновым комплексом. С его легкой руки Париж наводнили египетские обелиски и прочие предметы древней материальной культуры. Франсуа Миттеран питал загадочное пристрастие ко всему египетскому и не отличался при этой особой разборчивостью, поэтому французы до сих пор называли его Сфинксом.
– Как зовут вашего капитана? – Лэнгдон решил сменить тему разговора.
– Безу Фаш, – ответил агент, направляя машину к главному входу в пирамиду. – Но мы называем его le Taureau.
Лэнгдон удивленно поднял на него глаза:
– Вы называете своего капитана Быком?
Что за странное пристрастие у этих французов – давать людям звериные прозвища! Агент приподнял бровь:
– А ваш французский, месье Лэнгдон, куда лучше, чем вы сами в том признаетесь.
Мой французский ни к черту не годится, подумал Лэнгдон, а вот в иконографии знаков Зодиака я кое-что смыслю. Таурус всегда был быком. Астрологические символы одинаковы во всем мире.
Агент остановил машину и указал на большую дверь в пирамиде между двух фонтанов.
– Вход там. Желаю удачи, месье.
– А вы разве не со мной?
– Согласно приказу я должен оставить вас здесь. У меня есть другие дела.
Лэнгдон вздохнул и вылез из машины. Игра ваша, правила – тоже.
Взревел мотор, и «ситроен» умчался прочь.
Глядя вслед быстро удаляющимся габаритным огням, Лэнгдон подумал: А что, если пренебречь приглашением? Пересечь площадь, поймать у выхода такси и отправиться в отель, спать?.. Но что-то подсказывало ему, что идея эта никуда не годится.
Лэнгдон шагал к туманной дымке фонтанов, и у него возникло тревожное предчувствие, что он переступает воображаемый порог в какой-то совсем другой мир. Все этим вечером происходило словно во сне. Двадцать минут назад он мирно спал в гостиничном номере. И вот теперь стоит перед прозрачной пирамидой, построенной Сфинксом, и ожидает встречи с полицейским по прозвищу Бык.