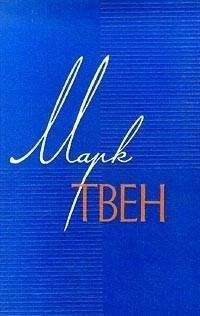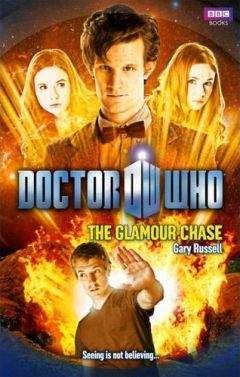Я кладу руку Эмме на плечо. Она вздрагивает от прикосновения и непонимающе смотрит на меня своими безумными воспаленными глазами.
— Посмотрим, что можно сделать, — говорю я, надеясь, что она не видит, как предательски дрожат у меня колени.
У конторки дежурного я откашливаюсь.
— Я ищу офицера…
— Какого? — лениво спрашивает сержант.
Кровь приливает мне к лицу.
— Который ведет допрос Джейкоба Ханта, — отвечаю я. Почему я не спросил у нее фамилию детектива?
— Вы имеете в виду детектива Метсона?
— Да. Я хочу, чтобы вы прервали допрос.
Сержант пожимает плечами.
— Я не буду прерывать допрос. Можете подождать. Когда он освободится, я сообщу ему, что вы здесь.
Эмма глуха ко всему. Она боком двигается от меня в сторону двери, ведущей вглубь полицейского участка. Дверь заперта, открывается с пульта дежурного.
— Он там, — бормочет она.
— Что ж, думаю, сейчас правильнее всего играть по их правилам…
Внезапно дверь жужжит и открывается. В зал ожидания выходит секретарь с курьерской почтой.
— Идем, — шепчет Эмма, хватает меня за руку и тащит в неожиданно открывшуюся дверь. Мы пускаемся бежать.
Я — живое доказательство того, что мечты на самом деле сбываются.
1. Я сижу с детективом Метсоном, который порет чушь.
2. Он делится со мной подробностями еще не закрытого дела.
3. Он ни разу не зевнул, не посмотрел на часы и никаким другим способом не дал понять, что устал обсуждать со мной расследование преступления во всех деталях.
4. Он хочет поговорить со мной об уликах, связанных с исчезновением Джесс, — уликах, которые я сам подбирал.
А если серьезно, чего еще желать!
По крайней мере, я так полагал, пока он не стал забрасывать меня градом вопросов. Его губы скривились в полуулыбке, и я не мог вспомнить, что это означает: то ли он рад, то ли нет. И разговор из общей плоскости — о весе человеческого мозга, о природе посмертных токсикологических анализов — перешел в личную.
Восторг от возможности под микроскопом рассмотреть печень несколько блекнет, когда детектив Метсон напоминает мне, что вышеупомянутая печень принадлежит человеку, которого я знаю, с которым когда-то смеялся, встречи с которым нетерпеливо ждал. В большинстве случаев социальное взаимодействие не вызывает во мне подобных эмоций. В отличие от теоретического рассуждения о смерти, оказывается, в реальности смерть, как и блюдо, приправленное кукурузным сиропом и красителями, разительно отличается от исходного продукта. Умом я понимаю, что Джесс умерла, а значит, бессмысленно жалеть о ее кончине, поскольку она уже не в силах изменить ситуацию. И все же отчего-то я чувствую, как будто у меня внутри шарик, наполненный гелием, — он продолжает надуваться и может разорвать меня на части.
Когда я думаю, что хуже быть уже не может, детектив Метсон обвиняет меня в том, что я обидел Джесс.
— Ведь это ты тащил Джесс за руки, верно?
Я не тащил. Так ему и сказал.
— А душил? Ты же не станешь врать, что не делал этого?
Я, разумеется, знаю ответ, но он увяз в болоте синтаксиса. Представьте, что вас пригласили на обед. «Не желаете последний кусочек бифштекса?» — когда, конечно же, вы желаете. Если ответите «да» — это означает, что вы желаете последний кусочек бифштекса? Или что не желаете?
— Почему ты ее задушил? Вы повздорили? Она сказала что-то, что тебе не понравилось?
Если бы Джесс была сейчас рядом, она бы сказала: «Сделай глубокий вдох. Скажи собеседнику, чтобы он говорил помедленнее, — посоветовала бы она. — Скажи, что ты его не понимаешь».
Только Джесс сейчас рядом нет.
— Я не душил Джесс, — наконец удается произнести мне. Это истинная правда. Но лицо у меня горит, а изо рта как будто сыплются опилки.
Однажды в детстве, когда Тео обозвал меня моральным уродом, я бросил в него диванной подушкой, но вместо брата попал в лампу, которую мама получила еще от своей бабушки. «Как это произошло?» — спросила мама, когда вновь обрела способность разговаривать. «Подушка сбила ее со стола». Это была чистая правда, но мама замахнулась и отвесила мне оплеуху. Я не помню, было ли мне больно. Но я помню, что был настолько ошарашен, что подумал: «Моя кожа сейчас растает». И хотя позже она извинилась, внутри у меня что-то перемкнуло: говорить правду означает быть свободным, разве нет? Тогда почему я попал в переплет, когда сказал одной молодой мамаше, что ее ребенок похож на обезьянку? Или когда в знак «братской» помощи прочел доклад другого ученика и заявил, что он ужасен? Или когда признался маме, что чувствую себя пришельцем с другой планеты, которого послали на землю изучать семьи, поскольку я никогда не чувствовал себя по-настоящему членом семьи Хант?
А сейчас?
— Ты душил ее, пока она не умерла? Ты ударил ее по лицу?
Я вспоминаю Люси и Этель на кондитерской фабрике. О том случае, когда я вошел в океан и не смог увернуться от набегающих волн, а они, хлынув на берег, сбили меня с ног. В «Блюстителях порядка» детективы допрашивают подозреваемых и те, в конечном счете, всегда «раскалываются» перед весомыми, неопровержимыми уликами.
Все идет не так, как я планировал.
Или мой план сработал слишком хорошо?
Я никогда не желал зла Джесс, поэтому следующий вопрос — как нож в сердце.
— Почему же тогда у нее выбит зуб? — спрашивает детектив Метсон.
Перед моим внутренним взором тут же разворачивается ответ. Я тяну Джесс вниз по лестнице и роняю на последней ступеньке. «Прости!» — вскрикиваю я, хотя в этом нет необходимости: она меня больше не слышит.
Однако что бы я ни говорил — все без толку, потому что детектив Метсон меня не понимает. Поэтому я решаю применить драматургический прием и показать ему прямо здесь и сейчас изнанку своей души. Делаю глубокий вдох и смотрю ему прямо в глаза.
Как будто изнутри с меня сдирают полоски кожи. Как будто в каждый нервный центр моего мозга воткнули иголку.
Господи, как больно!
— Это был несчастный случай, — шепчу я. — Но я сохранил его. Положил ей в карман.
Еще одна правда, но она заставляет Метсона вскочить с места. Уверен, он слышит, как в моих жилах пульсирует кровь. Признак аритмии. Надеюсь, я не умру прямо сейчас, в кабинете детектива Метсона.
Я скашиваю глаза налево, направо, вверх — куда угодно, лишь бы больше не смотреть ему прямо в глаза. И тут я замечаю часы и понимаю: уже 16.17.
Если не будет пробок, понадобится шестнадцать минут, чтобы добраться от полицейского участка до дома. Это означает, что я попаду домой не раньше 16.33, а «Блюстители порядка» начинаются в 16.30. Я встаю, размахивая обеими руками перед собой, как колибри, но даже не пытаюсь сдержаться. Похоже на те моменты в сериале, когда преступник наконец сдается и падает на металлический стол, рыдая от чувства вины. Я хочу смотреть этот сериал, а не жить в нем.
— Мы закончили? — спрашиваю я. — Потому что мне на самом деле пора.
Детектив Метсон встает. Я решаю, что он хочет открыть дверь, но вместо этого он преграждает мне путь и наклоняется так близко, что я чувствую его дыхание. Что, если я вдохну воздух, который он выдохнул?
— Ты знаешь, что разбил ей голову? — говорит он. — Это случилось тогда же, когда ты выбил ей зуб?
Я закрываю глаза.
— Не знаю.
— А ее белье? Это ты надел его наизнанку, да?
При этих словах я оживаю.
— А оно надето наизнанку?
Откуда мне было знать? Там не было ярлыков, как на моих трусах. Неужели изображение бабочки находится спереди, а не сзади?
— Ты и белье с нее снимал?
— Нет, вы только что сказали, что она была в белье…
— Ты пытался заняться с ней сексом, Джейкоб? — спрашивает детектив.
Я молчу, как немой. Просто думаю, отчего мой язык распухает, как узел «обезьянья лапа».
— Отвечай, черт побери! — кричит он.
Я пытаюсь найти слова, любые, потому что не хочу, чтобы он на меня орал. Я признаюсь, что восемьдесят раз занимался сексом с Джесс, если он хочет услышать именно это, лишь бы потом он открыл мне дверь.
— Ты передвигал ее тело после смерти, так ведь?
— Да. Конечно, передвигал.
Разве это не очевидно?
— Зачем?
— Мне было необходимо воссоздать место преступления. Тело должно было находиться именно там.
Должен же он, черт возьми, понять!
Детектив Метсон склоняет голову на бок.
— Вот почему ты это сделал! Хотел совершить преступление и посмотреть, удастся ли выбраться сухим из воды?
— Нет, не поэтому…
— Тогда зачем? — обрывает он.
Я пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить все причины, по которым я поступил так, а не иначе. Но одно мне непонятно — ни умом, ни еще меньше сердцем: что нас связывает друг с другом.