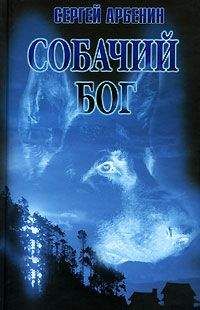— А может, Полкан сам пойдет?
Петр молча наклонился к Полкану, отстегнул карабин, опасливо пряча руки.
— Надевай! — сказал он Иосафату.
Но старик замешкался. Протянул палку, Полкан оскалился и внезапно прыгнул к выходу, проскочив между Петром и Иосафатом. Фонарь упал, горящее масло вылилось на солому, растеклось. Солома вспыхнула. Огонь мгновенно охватил дверной косяк. Петр, не растерявшись, вытолкнул Иосафата в открытую дверь, прыгнул следом.
Иосафат упал в грязь и принялся кричать дрожащим голосом:
— Пожар! Пожар!
Все произошло так быстро и неожиданно, что Петр на какое-то время забыл о Полкане.
Из господского дома стали выскакивать дворовые — сначала девки и бабы, потом и несколько мужиков — кучер, конюх, работники, слуги. Привезенный из Москвы повар-француз, живший в отдельной комнате, распахнул окно и закричал:
— O mon Dieu! Je suis etonne! Au lieu de…
Окончание фразы потонуло в рёве огня, охватившего весь сарайчик. Выбежал Григорий Тимофеевич в ночном колпаке, и приказал мужикам окапывать землю вокруг пожара, а бабам — таскать воду вёдрами. Вёдра помогали плохо, а окапывать не давал палящий жар. К счастью, псарня стояла особняком, и огонь в безветрие не мог перекинуться на другие строения; задымилась, было, стена конюшни, но её быстро залили водой. Лошадей, однако, стали выводить на воздух.
— Где Полкан? — спросил Григорий Тимофеевич метавшегося между бабами и мужиками Петю.
— Сбежал! — на ходу ответил Петя, кидаясь к пожарищу с багром наперевес.
— Куда?
— Об том не ведаю, дядя!..
На фоне зарева издалека четко виднелись темные мечущиеся фигуры людей.
Белая, лежавшая на крыше деревянной беседки в саду, глядела на них ласковыми, слегка сонными глазами.
Потом медленно и длинно зевнула, прыгнула с крыши — и растворилась во тьме.
Полкан выскочил на поляну. Присел, тяжело дыша и вывалив сухой шершавый язык.
На небе ровно сияла луна, но с запада наносило тучи, и звезды гасли одна за другой. Пока же луна освещала небольшую поляну, на одном краю которой, прислонившись к стволу вяза, стояло странное мохнатое существо, а на другом краю сидела огромная белая собака с горящими глазами. Полкан оказался как раз между ними.
Почувствовав неладное, Полкан забеспокоился, беспрерывно оглядываясь то на существо, то на белую собаку. От существа пахло странно — неземным, неведомым, и скорее страшным, чем добрым. Зато от Белой так и лилась сила, запах безмерной власти, аромат победительницы.
Существо подняло лапу, словно подзывая Полкана. Белая спокойно сидела, только глаза её открылись шире; они притягивали Полкана, как магнитом.
Полкан внезапно захрипел горлом, упал на брюхо и пополз, приподняв зад и постукивая хвостом, к Белой. Белая улыбнулась. Теперь она смотрела поверх ползущего пса, прямо в глаза неведомого мохнатого существа.
Существо отлепилось от ствола и сделало шаг, словно решило догнать Полкана. Но тучи внезапно закрыли луну.
В небе раздался пронзительный звук охотничьего рога, и налетевший ветер зашумел в кронах; с шелестом и стуком посыпались на землю листья и ветки, и тяжко застонал старый вяз.
Существо открыло рот, похожий на пасть, и почти простонало:
— Упуат…
— Упуат, Упуат… — повторила Белая, прикрыв глаза. — Ах, как давно я не слыхала своего второго имени!
— Ты — порождение Сехмет, пожирающей людей.
— Ошибся. Тебе изменяет память от старости. А свое имя ты помнишь? Дитя шакала, вечно рыскающего по кладбищам? Саб!
— Сарама, — произнесло существо.
— Да, и Сарама! Ты вспомнил, наконец! — торжествующе ответила Белая; ответила не голосом — мыслью. — Вспомнил, кто я? Вспомни еще, что я не только повелительница волков и мать зимы. Я — мать всего человечества, потому, что я зачала тысячи лет назад великий город, который стал началом нынешних времен. Я — основатель городов, Ликополя и Рима.
— Нет, ты мать чумы и холеры.
— Я — воплощение огня!
— Ты — пожирательница трупов, похититель времени, воплощение ночи.
Сарама словно выросла, она стала гигантской, непомерно гигантской, став выше существа. Её лапы стали похожи на стволы деревьев. Она стала своей тенью.
— А ты? — гневно сказала она. — Разве не ты породил Аттилу? И предка Чингисхана?
— Это выдумка. Аттила был обычным человеком.
— Ты лжешь, выродок. Аттила был величайшим человеком с примесью собачьей крови. Он должен был закончить человеческий цикл. Но не закончил, — вмешался ты. Потом был Чингисхан, — и снова ты встал у меня на пути. Но сейчас у тебя нет силы. Ты немху, отребье, отверженный. Ты бессильный старый шакал, отец гиен. И не тебе вставать у меня на пути.
Сарама перевела дух, грудь её вздымалась, в горле клокотало.
— А хочешь знать, что происходит с теми женщинами, которые приняли твое подлое собачье семя? Они все в аду, и там два бешеных пса постоянно грызут им руки, и лижут огненными языками… Но посмотри туда!
Она кивнула в сторону имения: столб огня и белого дыма был виден из-за леса, и даже были слышны далекие, тонкие голоса, будто кричали лилипуты. Вовсю трезвонили колокола далекой церковки, но сквозь звон было отчетливо слышно хриплое воронье карканье.
— Я — воплощение огня!.. — повторила Сарама.
Тень на противоположной стороне поляны шевельнулась.
— Но вода гасит огонь.
— А, я знаю! Ты считаешься здесь сыном Велеса, скотьим богом, которому глупые люди оставляют на полях горсть овса на прокорм!
— Нет, это было давно. Ты верно сказала: теперь я — немху.
Её глаза вспыхнули, и сейчас же, словно вторя ей, ослепительно сверкнуло над лесом, а потом в отдалении, постепенно замирая, тяжко пророкотал гром.
Полкан уже валялся на спине у лап Сарамы, подставив брюхо, и тихо и нудно выл, вымаливая прощение. Белая, даже не взглянув на него, отдала немой приказ. Полкан вскочил, радостно тявкнул, и стремглав понесся во тьму.
Белая взглянула через поляну, — существо тоже исчезло.
Морда Белой стала озадаченной. Потом глаза её погасли, она внезапно стала самой собой, только тень оставалась огромной, мохнатой, жуткой. Она повернулась, и неторопливо пошла через поляну, озаряемая вспышками молний и сопровождаемая раскатами грома.
А Полкан мчался стрелой в сторону деревни. Теперь-то уж он точно знал, что должен сделать.
Холодный дождь водопадом обрушился на темную спящую деревню, на голые леса и черные поля.
Феклуша очнулась. Ей почему-то стало легче, — почти легко; она вздохнула с облегчением, повернулась на бок, и вздрогнула.
Прямо перед ней темнела странная расплывчатая фигура. Ласковая рука коснулась её лба, и боль, к которой она уже почти притерпелась, стала отпускать, в голове посветлело. Феклуша улыбнулась и шепнула:
— Так это тебя звал Суходрев? Теперь я поняла.
Она закрыла глаза и тихо, спокойно уснула. А темная фигура всё стояла над ней, касалась нежной мохнатой лапой лица, гладила сбившиеся, вялые волосы, и распухшие, в черных синяках, ноги Феклуши.
А когда за окном начало светлеть, фигура исчезла. И тогда Феклуша проснулась, чувствуя голод и жажду. Она приоткрыла занавеску и громко шепнула:
— Мама! Мам! Ты вареной картошечки не припасла? И кваску бы мне…
Стёпка сидел перед печкой, тянул вполголоса какой-то полузабытый сиротский напев. За окном бушевала пурга, снег стучал в белое стекло. На столе горела керосиновая лампа.
Степка думал. Он все никак не мог забыть странного городского пса, оказавшегося вдруг за сотни километров от дома. Сам убежал? Или хозяину надоел, — прогнал?
Степка выл, время от времени вставляя в напев какие-то всплывавшие в сознании полузабытые слова, и думал, думал.
Он вспоминал Костьку. «Хороший людя, однако», — думал он.
Он вспоминал тунгусского шамана — школьного сторожа.
«Плохой людя, однако. Ничего не может. Даже собаке помочь. Как людям помогает?». Степка подумал, и решил — наверное, никак. Получает свою зарплату, пьет чай, ест сладкие плюшки из школьной столовой, и ничего не ждет.
Надо бы к Катьке сходить, посоветоваться. Может быть, она погадает — судьбу пса узнает. Но Катька злая, болеет сильно. Опять муки будет просить, однако. Степка вспомнил про чудодейственное лекарство, которое так не понравилось тунгусу. Плохому не понравилось, — значит, хорошему подойдет, — решил он. Лучше Катьке дать.
Теперь надо ждать, когда утихнет пурга. А пока, решил Степка, надо сделать шаманский посох, тыевун. Посох нужен, чтобы узнать судьбу далекого человека.
Степка оделся налегке и вышел в ночь. Неподалеку от избушки стояла полусухая сосна. Ветки у нее гладкие, длинные. Как раз на посох сгодится.
Как только пурга немного стихла, Степка начал собираться в путь. Собирался основательно, взял шкурки соболя, взял инструменты, даже сшитую из лоскутьев шкуру увязал покрепче, подвесил к туго набитому рюкзаку. Он решил сначала зайти в поселок, сдать шкурки, купить муки и соли. От такого подарка Катька злиться перестанет, подобреет, однако.