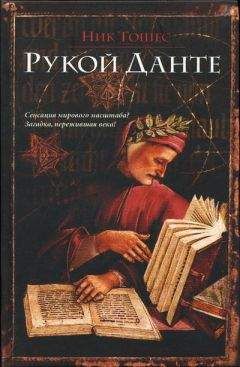Но это все неуместные отступления, — остановил он сам себя, — размышления старика о прошлом, не больше того; да, о прошлом, которое, как и должно быть, ушло навсегда. О том, что он больше араб, чем еврей, я говорю лишь для того, чтобы тебе было легче найти его.
Так вот, как я уже сказал, мы прожили в Лангедоке довольно долго. Но к тому времени, когда нас, евреев, изгнали оттуда, он уже покинул нас.
При его знании языков и умении сочинять пользовавшиеся тогда успехом изящные стихи, известные под названием muwassaba, а также владении прочими поэтическими формами, от Гомера до Окцитана, ему не составляло труда найти место при дворе какого-нибудь прованского вельможи. Он даже добрался до королевского дворца, где ему заказывали стихи на французском и переводы на латынь всевозможных королевских документов.
Когда я попал в Венецию, он уже уехал из Франции, заслужив расположение короля Сицилии. По его представлению, именно там, в древнейшей стране Тринакрии, жила и сохранялась древнейшая мудрость веков. Именно там, говорил он, кровь одних смешивалась с кровью других, и сила одних завоевателей налагалась на силу других завоевателей, но при этом истинная, сокрытая душа земли оставалась могущественнее и сильнее суммы всех завоевывавших ее сил.
Сейчас он там. Оттуда он прислал мне, среди прочих сокровищ, суть мудрости запрещенного Евангелия от Фомы. И, как я уже сказал, эти дары продолжают приходить. Но письма не приходят. В своем последнем послании он рассказал, что нашел легендарную Итаку, родину Одиссея, и сообщал, что она станет и его домом, его последним пристанищем, сокольим гнездом.
Вот и все ключи, которые я могу предложить тебе, потому что других у меня нет, а сам я никогда там не был.
Другого значения трех в трех внутри трех я не ведаю. Но полагаю, что именно там ты и найдешь его. Книга, которую ты держишь, получена от него и послужит тебе пропуском к нему.
Наступила тишина, потом поэт спросил:
— Откуда вы знаете, что этот знак есть знак, указывающий на его местопребывание, а не несет какое-то иное значение?
— Так говорят письмена. — Старик указал пальцем, похожим на коготь, на искусно начертанные иероглифы, и его голос, давший звучание молчаливым знакам, напомнил журчание быстрой воды темного потока:
Huna 'askunu
'ala al-thalatha
fl al-thalatha
fl al-thalatha
Затем он перевел звуки быстро бегущей воды на язык, понятный гостю:
— «Здесь я обитаю, здесь, где три есть три трех».
Но, как и журчание быстрой воды, значение этих слов осталось недоступным пониманию поэта.
— Почему он просто не назвал место, где живет?
— Потому что преувеличивает мою эрудицию и не хочет, чтобы его местонахождение стало известно тем, кого он не желает посвящать в эту тайну. Чего еще ожидать от человека без имени?
Снова наступила тишина, и снова первым ее нарушил поэт, но теперь он заговорил о том, что было ближе его сердцу.
— Вы нарисовали впечатляющий портрет вашего друга. Но при всем том мне непонятно, почему я должен пускаться в трудное путешествие, чтобы найти его.
Казалось, старик задумался над ответом, но это было не так, потому что, когда он заговорил, слова прозвучали столь уверенно, словно голос был нареченным, единственным и верным женихом:
— Потому что он может видеть.
Лицо Левши было уже сизым, и руки у него тряслись. Он сидел слева от меня. Луи сидел справа. Джо Блэк смотрел на нас из-за стола.
— Значит, ты оставил ее в Чикаго?
— Пришлось.
— Ты же знаешь, — сардонически ухмыльнулся Луи. — Вся эта чушь с аутентификацией.
— С тобой не разговаривают, — сказал Джо Блэк. Луи закатил глаза, цыкнул зубом, закурил сигарету и отвернулся.
Джо Блэк снова повернулся ко мне.
— Пришлось, говоришь?
— Да, пришлось, — повторил я.
Джо Блэк неприязненно взглянул на Луи и обратился к Левше:
— По-моему, ты сказал, что у этого парня есть голова на плечах.
— Эй, перестань. — Голос Левши был совсем слабый. — Они же там не ерундой занимаются. И домой по вызову не приходят. Там же эти штуки… — Он взглянул на меня. — Как, ты говорил, они называются? — Он снова повернулся к Джо Блэку. — С аппаратурой, размером в комнату, на вызов не ходят, Джо.
— Электронно-сканирующий микроскоп, — вспомнил я.
— Ники знает, что делает, и он в порядке. Послушай, а как ты себе это представляешь? Взять рукопись и отнести ее на Ченэл-стрит? Положить на тротуар рядом с какими-нибудь поддельными «Ролексами»?
Джо Блэк уставился на Левшу. Взгляд его смягчился, как будто Левша достоин прощения по причине болезни. Хотя, может быть, весь этот спектакль разыгрывался по заранее намеченному сценарию и с заранее рассчитанным финалом.
— Послушай, — сказал я. — Хочешь, чтобы я вышел, отдай мне прямо сейчас мои деньги.
Джо Блэк слегка поднял голову и взглянул на Рембрандта.
Я наклонился вперед, покачал головой, устало вздохнул и поднял руку, как будто собираясь почесать спину.
Выхватив пистолет, я быстро повернул его вправо и выстрелил Луи в голову, перебросил прицел на два фута влево и выстрелил в грудь Джо Блэку, а когда тот, собрав последние силы, подался ко мне, всадил еще одну пулю прямо ему в макушку.
После первого выстрела в Луи Джо Блэк и Левша вскрикнули. Именно вскрикнули, потому что Джо Блэк не успел даже вдохнуть, прежде чем получил вторую пулю, а Левша вдруг умолк.
Пистолет смотрел на него в упор.
— Я был на твоей стороне, Ники. Я все время был на твоей стороне.
Друг.
С давних времен.
— Ты же сам знаешь, как обстояли дела. Все веревочки держал Джо Блэк. Но я всегда стоял за тебя.
Да, давние времена. Былые деньки.
— А потом, когда я сыграл бы свое… — Я посмотрел ему в глаза. — Прощай, Ники, верно?
— Нет, приятель. Нет, если бы все получилось по-моему.
— Как легко и быстро у тебя нашлись слова. А хочешь так же быстро прыгнуть в мою могилу?
— Посмотри на меня, — сказал он.
— Смотрю.
— Давай вместе доведем это дело до конца.
— Да ты шутишь, приятель. За тобой же первым придут. Кроме того, ты же мешок дерьма. Ты сам поможешь им отыскать меня.
— Ники, — сказал он. Других слов уже не было.
Я проделал ему дырку там, где когда-то была душа.
Старые времена давно умерли, как умер и мой старый друг.
Tabutu.
Я не знал, кому еще известно, что рукопись в Чикаго. Не знал, сколько понадобится времени, чтобы кто-то обнаружил эти три трупа. Я лишь знал, что нельзя убить такого человека, как Джо Блэк, и ждать, что будет дальше. Есть закон. Ладно, тень закона. Да. Но еще у ребят вроде Джо Блэка много своих теней, от Нью-Йорка до Палермо. А у тех теней есть, в свою очередь, еще тени.
Я закрыл дверь и услышал, как щелкнул замок. По соседству строители потрошили дом, чтобы расширить площадь жилых пространств. Мусоропровод изрыгнул дерево и штукатурку, и они посыпались в большой мусорный бак. Пыль от штукатурки поднялась в воздух грязно-серым облаком. С верхних этажей с шумом обрушилась очередная порция мусора, и облако всколыхнулось. Проходя мимо бака, я бросил в него пистолет.
Сжав сумку, я оглянулся в последний раз, и меня едва не оглушила бесповоротность случившегося и утрата всех осязаемых предметов.
Мой путь лежал прямиком в Чикаго. Там я забрал манускрипт и отчет, содержавший детальное описание всех исследований, известных человеку и современной науке. После того как директор лаборатории подписал договор о конфиденциальности, я вернулся в аэропорт и вылетел в Париж.
Ему запомнились эти слова: «Потому что он может видеть». Они остались в нем: «Потому что он может видеть». Слова вошли в душу: «Потому что он может видеть».
Они вросли в него, как темнота врастает во мрак, и когда первые летние ветры, промчавшиеся над Равенной и ее окрестностями, принесли новую жизнь горожанам и крестьянам, ему они принесли небо болезни, так что ласковое солнце, подарившее свой мягкий золотистый свет весело зазвеневшей бронзе церковных колоколов и пению детворы и птиц, буйной, живой зелени чертополоха и искрящимся росой травам холмов, полей и лугов, душистым цветам и порхающим разноцветным бабочкам, оно, это же солнце резало глаза и вызывало тяжелый запах гниения, вытаскивало на свет мерзких личинок, и червей, и грязных жужжащих мух. Все, что сияло, блестело, пело и плясало под солнцем, действовало на него так же, как действовала болезнь на его чувства, как некий демон жестокости, насмехавшийся над ним и мучивший его. В конце концов тьма, сгустившаяся внутри, стала болью, и он, не имея сил выносить эту боль, отступил в свою собственную тень, и пыль земли снова стала его Космосом. Он все равно что умер, но при том продолжал отворачиваться от солнца и даже от тьмы, обволокшей его душу и сердце. Сердце его колотилось, как колотится сердце мечущейся, обреченной на заклание твари, когда он размышлял об этом небе хвори, отводя от него глаза, когда размышлял об источнике семян тьмы в себе, когда думал об обрушившемся на него зле, о небе, болезненно влекущем небе зла, призываемом и прогоняемом людьми.