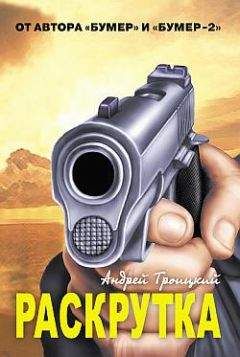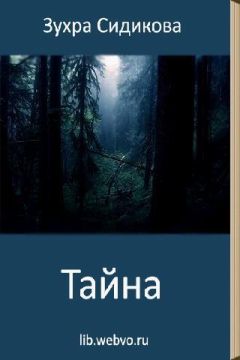– Да, это долгая песня, – кивнула Дунаева, пытаясь догадаться, куда клонит этот субъект и зачем, собственно, пожаловал.
– Вот и я про то же – долгая песня. Пока на дом покупатель найдется, пока сделку будете заключать. Вы же с мужем поровну делите имущество? Ну, вот. Словом, все это время вы собираетесь жить тут, в этом доме? Так я понимаю?
– Вы всегда все понимаете именно так, как нужно, – отвесила неуклюжий комплимент Дунаева. – И входите в положение.
– Но не в этот раз. – Товстун сделался грустным, будто его только что оскорбили в лучших чувствах. Он назвал имя своего благодетеля и покровителя, сказал, что именно он прислал Ивана Егоровича на эти переговоры и добавил: – Вы же не станете отказывать этому человеку? И я говорю – ему не надо отказывать. Нельзя. А просит он об одном маленьком одолжении. И не только он, многие жители нашего поселка просят об этом. Чтобы вы, ну, пока тянется вся эта бодяга с разводом и дележом, пожили где-нибудь… Ну, в другом месте.
Дунаева оказалась не готова к этому пассажу, не сразу нашлась с ответом.
– Это наш дом и наша земля, – твердо ответила она. – И я буду жить здесь, сколько захочу.
– В этом поселке не селятся всякие там артисты и куплетисты. – Товстун, кажется, ожидал именно этого ответа. – Таковы правила. У артистов – своя вотчина. А здесь живут самые солидные и самые уважаемые люди этой страны. Сюда нельзя прийти с мешком грязных денег и стать собственником дома и земли. Существует некий ценз. Ваш муж был большим бизнесменом, не более того, просто бизнесменом. Но у него были связи, общественное положение. Поэтому вы здесь. Теперь о его бизнесе и связях надо говорить в прошедшем времени.
– Это не меняет дела.
– Это многое меняет. – Губы Товстуна сделались серыми, глаза сузились в злом прищуре. – Но сейчас речь не об этом. В Интернете появились всякие скабрезные статейки о вас и вашем брате, который убивал женщин. Я не знаю, правда все это или ложь. Не знаю и знать не желаю. Но люди, ваши соседи, многие жители поселка, того мнения, что вам лучше уехать. На то время, пока ваш дом не будет продан. Они не хотят жить с вами по соседству. Не хотят вас видеть. И мой, – Товстун снова помянул имя своего благодетеля, – очень об этом просил. В ваших же интересах пойти навстречу людям.
– Я никуда отсюда не уеду. – Голос Дунаевой оставался спокойным. – Так и передайте жителям поселка. Или объявление на воротах повесьте. Крупными буквами: «Дунаева здесь жила и будет жить дальше».
– Жаль, что не смог вас убедить. – Товстун поднялся, вышел в прихожую и, присев на стул, стал натягивать свои башмаки. – Со мной всегда так: не умею людей уговаривать. Растяпа – одно слово. Потому что всегда напрямик говорю. Другой бы на моем месте навел тень на плетень. Ля-ла, три рубля… Целую серенаду спел. А я – напрямик. Все как есть выкладываю. Только учтите, что охрана с дома снята. Камеры наблюдения не работают. Если, не дай бог, что случится… Ну, мало ли… Сами знаете, времена неспокойные. Если что – я вас предупреждал. И предостерегал.
– А что может случиться? Что именно?
– Ну, пожар, например, – без запинки ответил Товстун. – Или ограбление. С тяжелой травмой. Черепномозговой, например. Или возьмет одинокая женщина да и удавится. От тоски и безысходности. Чего не бывает. Я всякого навидался.
Он завязал шнурки, накинул плащ и ушел, вежливо попрощавшись с хозяйкой. Ольга Петровна слышала, как заработал двигатель и машина отъехала от дома. Она будто боялась, что внизу ее разговор подслушают, поднялась в спальню, минуту раздумывала, кому бы позвонить. Кажется, давняя знакомая, администратор московской филармонии Лида Карасева, говорила, что осень обещают дождливую, самое время увозить стариков с дачи. Значит, сейчас в доме уже никто не живет. И можно попросить ключи, Лида не откажет. Дунаева пробудет на даче неделю, а там подыщет другой вариант, что-нибудь поприличнее. Городскую квартиру, пусть скромную. А денег займет у той же Карасевой. Хотя нет, у Карасевой никогда лишней копейки не водилось.
– Только неделю поживу на твоей фазенде, – сказала она в телефонную трубку. – Максимум десять дней.
– Пожалуйста, Оля, живи хоть до снега, – ответила Карасева. – Но тебе там неудобно будет. Это не дача, а дом в деревне. А сама деревня – лишь название. Одна улица, несколько домов и развалившийся клуб. Удобства во дворе, изба старая.
– Мне понравится, – ответила Дунаева. – Лишь бы уехать отсюда. Скоро на улице пальцем начнут показывать. И камни в спину кидать. Как проклятая тут. Целыми днями за порог не могу носа высунуть. Не хочу тут больше жить. И точка.
– Тогда приезжай за ключами, – сказала Карасева. – И не волнуйся ни о чем. Все срастется.
Через час Дунаева спустилась в гараж, положила в багажник чемодан, а на заднее сиденье дорожную сумку, выехала за ворота поселка и вздохнула с облегчением.
* * *
Остаток дня Радченко махал лопатой, копая две глубокие ямы. Одну – под новый сортир, вторую – для рыбьих потрохов. Федосеич сидел сверху на песочке, неторопливо читал газету и давал ценные указания. Иногда он бросал в яму бутылку с водой, теплой и солоноватой. Обедом Радченко не покормили, а за ужином усадили за общий стол с краю. Он ловил на себе равнодушные взгляды мужиков, хлебал рыбную похлебку, а потом дотемна мыл алюминиевые миски. Когда совсем стемнело, поплелся к бараку, чтобы упасть на койку и отоспаться. Но тонкий голос Федосеича остановил его.
– Небольшое дело осталось, – сказал старик. – И надо бы сегодня его добить. Завтра другая работа будет.
– Что за дело?
– Старый сортир весь в дерьме, – усмехнулся Федосеич. – Бугор приказал почистить. Я тебе лампой посвечу.
Радченко вернулся в барак за пять минут до полуночи. Все мысли о побеге выветрились из головы. Сил хватало только на то, чтобы ноги передвигать. В полутьме горели две керосиновые лампы, одна у дверей, другая в дальнем конце барака. Это дежурный Федосеич все мусолил свою газету, словно хотел выучить ее наизусть. Работяги, кажется, спали. Где-то рядом нары художника, но где… Радченко взял керосиновую лампу, посветил на истопника.
Гречко лежал на верхней шконке. Он поджал ноги, будто живот схватило, одну ладонь подложил под щеку. Под правым глазом виднелся фиолетовый синяк, верхняя губа надулась и посинела. На щеке ссадина, царапины на шее. Видно, в палатке бугра ему навешали кренделей.
– Убери лампу. – Гречко шепелявил и причмокивал губами. – Дернуло меня с тобой связаться.
– Ничего, завтра авось легче будет.
– На том свете легче будет. Господи, говорил же тебе: не хрена сюда переться, – прошептал истопник. – Говорил ведь – нарвемся. И нарвались. Сволочь ты упрямая. Гад.
– Эй, кому не спится в ночь глухую? – Голос, кажется, доносился с потолка.
Радченко поставил лампу на ящик, хотел обернуться, но не успел. Какой-то человек прыгнул ему на плечи с соседних нар. Вцепился твердыми пальцами в шею. Радченко, крутанувшись, сбросил человека с плеч, но тут кто-то ударил его в колено каблуком сапога. Кто-то, подкравшись сзади, набросил на голову кусок мешковины. Кто-то навернул кулаком в живот. Радченко старался сорвать с головы мешковину, наступил на чью-то ногу, потерял равновесие и оказался на полу. Попытался встать и получил по затылку. Он хотел заползти под нары, но на руки наступали ногами. Снова ударили по голове чем-то тяжелым. Кто-то прыгнул коленками на спину. И наступила темнота.
Радченко пришел в себя среди ночи. Он лежал на земляном полу между коек. В голове гудел растревоженный пчелиный улей, изо рта сочилась слюна пополам с кровью, а ребра болели так, будто по ним танк проехал, а следом прошел стрелковый батальон. С пятой попытки удалось встать на ноги и доковылять до задней стены, где все шуршал газетой Федосеич. Старик глянул на физиономию молодого напарника, хмыкнул и протянул ему пластиковую бутылку с водой.
– Легко отделался, малый, если ходить можешь, – сказал старик. – Это тебя прописывали. Завтра учить уму-разуму станут. Готовься.
Радченко сел на пол, приложил к разбитым губам горлышко бутылки и сделал несколько жадных глотков.
– А послезавтра что? Наверное, уже выписывать будут. В смысле, на тот свет?
– Это смотря по поведению. – Федосеич достал откуда-то из кальсон вяленую рыбешку с большой головой, помял ее и начал чистить. – Тут ребята работящие. Трудовую копейку в поте лица добывают. Есть у людей свои, как бы это правильно выразить… Трудовые традиции, что ли. А молодых всегда учат. Так что тут без обид.
– А я и не обижаюсь, – сказал Радченко. – Умереть ученым человеком это ведь приятнее, чем сдохнуть неучем. Правильно?
Вместо ответа старик засмеялся, будто ворона закаркала.
Камышовым зарослям не было конца, а проводник дядя Вова Купцов уводил все дальше, в глубь лиманов. Шли гуськом, за старым браконьером шагал Безмен, за ним краснодарский авторитет Шест, а дальше пять вооруженных парней с карабинами и охотничьими ружьями. Болота обходили стороной, шли краем до тех пор, пока не выходили на твердый грунт. И тогда делали десятиминутный привал, скидывали с плеч рюкзаки и оружие, пили воду и наскоро перекуривали.