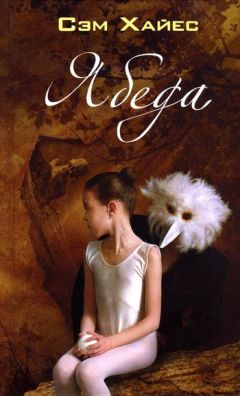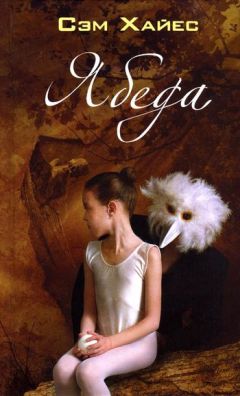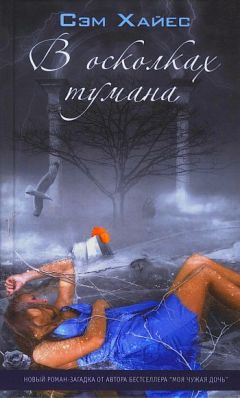Я хватаю ртом воздух, мысли разбегаются.
— После того как детский дом в Роклиффе закрыли, местные жители загорелись желанием собрать деньги для другого. Говорят, все были потрясены, ведь прямо у них под носом творились страшные злодеяния, и хотелось хоть как-то загладить свою вину. А теперь это стало традицией.
— Не понимаю, как несколько брошенных в ведерко монеток помогут…
Эдам не слушает. Он ступает на тротуар и тянет меня за собой — нас минует дюжина мужиков в костюмах санитарок. Зрители улюлюкают и хлопают в ладоши.
— Поначалу деньги собирали только деревенские, но когда здание было продано и в нем открылась школа, стали звать на подмогу и школьниц.
— Вот оно что, — киваю я и чувствую, что пульс почти возвращается к норме. — Значит, детский дом в Харрогейте не имеет отношения к… — Я машу рукой на школу за спиной.
Эдам качает головой:
— Ни сотрудники, ни ученицы никак не связывают события восьмидесятых с сегодняшней жизнью школы. И директор не распространяется на эту тему с родителями потенциальных учениц.
— Так Палмер в курсе того, что здесь происходило? Он знает об… убийствах? — с трудом выговариваю я.
— А как же, — удивляется Эдам. — Он в те времена был учителем деревенской начальной школы. Местный, можно сказать, до мозга костей.
Вопли толпы сбивают меня с мысли. Мистер Палмер был учителем в начальной школе. Как шелестящие на ветру страницы фотоальбома, перед глазами проносятся образы: дети, школьные годы, стоптанные башмаки, леденцы, беззубые ухмылки, побои и окровавленные спины. Я ощущаю запах древесного дыма, вкус мерзкой еды, отчаяние и одиночество, в который раз вижу безликую фигуру мужчины.
Мистер Палмер. Нет, имя не вызывает никаких ассоциаций.
— С чего это вдруг такая заинтересованность? Книга, что ли, моя разожгла интерес к тайне?
— Просто я всегда осторожничаю, когда дело касается пожертвований. Предпочитаю точно знать, на что идут мои деньги.
Ядовитые цвета его наряда режут глаз. По лицу видно, что Эдам мне не верит.
— А я-то уж обрадовался, что ты поможешь мне побеседовать с кем-нибудь из местных.
— Пошли. Мы здорово отстали.
Так и есть — пестрая карнавальная группа протрусила по главной улице Роклиффа и теперь мелькает вдали флагами, пятнами ярких цветов. Я слышу обрывки приглушенных возгласов. Эдам припускает за ними, но по клоунской физиономии проплывает тень разочарования: теперешнюю его скорость не сравнить с тем, как мы начали. А когда мы равняемся с домишком Фрейзера Бернарда, он и вовсе останавливается посреди улицы.
— В чем дело? Сдаешься? — Я нетерпеливо оборачиваюсь к нему. Хочется скорей с этим покончить и вернуться к своим простыням и биркам.
— Давай зайдем в пивную, выпьем чего-нибудь? — предлагает Эдам.
— Ты же говорил, что хочешь принять участие в благотворительном пробеге? Пивная вроде из другой оперы?
— А если я внесу пятьдесят фунтов от нас обоих? Тогда пойдешь?
Группа бегунов в конце улицы почти скрывается из виду, но еще слышно, как со звоном падают монеты.
— Обещаешь? — Я представляю себе ребят, распевающих в поезде на Скарборо, вижу их счастливые лица, измазанные мороженым, слышу треньканье пинбольных автоматов, когда дети бросают в них монетки из наших ведерок, — и мне немедленно хочется вывернуть карманы.
— Да если будет нужно, я сам отвезу ребят в Скарборо! — Эдам стаскивает парик. — Признаться, терпеть не могу бегать.
Волосы у него на макушке стоят дыбом. Он замечает мой взгляд и приглаживает шевелюру. Удивительно — Эдам в этой йоркширской деревушке точно у себя дома, хотя с его акцентом, рыжими вихрами и загаром ему самое место на австралийском пляже. Он снова ерошит волосы, почему-то вдруг засмущавшись.
— Только засиживаться не будем. — Я мысленно охаю: с ума сойти, согласилась пойти с Эдамом в пивную! Несмотря на чувство вины, мне все равно приятно. — Когда девочки вернутся с пробега, в спальнях начнется светопреставление.
Эдам хочет курить, поэтому мы устраиваемся на улице. Для конца октября еще довольно тепло, и хозяин «Утки и куропатки» выставил несколько столиков на тротуар. Я сажусь на скамейку верхом и принимаюсь за эль, который принес Эдам. А сам он пока скручивает сигарету. Пятна солнечного света, юная парочка за соседним столом, переброшенный мне пакетик чипсов с сыром и луком, даже потешный костюм — все заставляет меня почувствовать себя обычной женщиной. Чуть-чуть, на один процент.
— У меня проблемы. — С губ Эдама свешивается незажженная сигарета, вихрь мыслей проносится в ярко-синих глазах. Он полагает, что я понимаю, о чем речь.
— А именно? — спрашиваю я, хрустя чипсами.
— Да с книгой, конечно. Всегда с книгой! Ни на чем другом не могу сосредоточиться.
— Думаешь, книга поможет тебе разыскать сестру?
Эдам прожигает меня взглядом, словно ему одному дозволено вспоминать ее, и долго молчит.
— Так ты поедешь со мной в Лидс? Я видел афишу, выставка открыта еще несколько дней. Называется «За пределами экспрессионизма». Правда, здорово?
— Ты не ответил на мой вопрос, Эдам, — тихо, смиренно, почти шепотом говорю я, и его зрачки расширяются, несмотря на яркое солнце. Что на меня нашло?
Он пожимает плечами и отзывается так же тихо и примирительно:
— Работая над книгой, я надеюсь разузнать о ней, а не разыскать ее. — Мы словно осторожно кружим друг вокруг друга в причудливом танце. — А теперь ты расскажи о своем увлечении живописью.
— Разве я что-нибудь такое говорила?
Это в характере Эдама — докапываться и доискиваться, на то он и историк.
— Достаточно было увидеть, как ты с полными руками белья разглядываешь портреты в библиотеке. И твои слова насчет того, что нужно время, чтобы оценить картину. Так оно и есть. Большинство людей ограничиваются мимолетным взглядом. А если представить, сколько времени и труда…
— Ты поможешь мне разобраться со школьным Интернетом? — перебиваю я, чтобы положить этому конец.
— Конечно. — Сигарету он так и не зажег.
— Я тоже кое-кого ищу, — вырывается у меня. — Только этот человек не пропал.
Эдам вынимает изо рта сигарету и выдыхает, как будто было что вдыхать. Прищурившись, словно глаза режет несуществующий дымок, он тянет эль.
— Ты, мисс Джерард, как непрочитанная книга. — Прежде чем я успеваю отстраниться, Эдам проводит пальцем под шрамом у меня на щеке. — На каждую историю можно взглянуть больше чем с двух сторон.
В 1984 году детский дом Роклиффа получил специальную награду муниципалитета. Было что отпраздновать. Многие детские дома в округе, по словам Патрисии, закрылись или не прошли ревизии, а Роклифф был флагманом муниципалитета, маяком для заплутавших в жизни детей.
В то лето состоялась церемония награждения. В детский дом явился мэр, весь увешанный золотыми цепями, и преподнес мистеру Либи почетный знак. Тот, позируя для местной прессы, с улыбкой, которую я до тех пор не видела, прошипел сквозь зубы, чтоб мы не смели трогать награду. «Нечего хватать своими грязными лапами», — сказал он.
— Сэр, пусть рядом с вами встанет пара детишек, — попросил один из фотографов.
Мистер Либи как деревянный стоял рядом с мэром. Меня за руку подтащили и втолкнули между ними.
— Улыбайся, рыбка, — сказал человек с фотоаппаратом.
Рука мистера Либи скользнула по моей спине и замерла на мягком месте. И в тот же момент меня ослепила сотня фотовспышек.
— Эва, смотри, у тебя глаза закрыты! — фыркнула мисс Мэддокс, когда три дня спустя мы сгрудились над местной газеткой «Скиптон мэйл».
«Не закрыты, а зажмурены», — подумала я. Мне было пятнадцать, я уже все знала. За восемь лет, проведенных в детском доме, во всем успела разобраться. Жизнь тут напоминала слоеный торт, который нам давали только на Рождество. Мы, дети, были фруктовой начинкой в самом низу — переспевшие бананы и персики с коричневыми бочками. Вроде и не нужны никому — и выбросить жалко.
Я уже почти привыкла к исчезновениям Бетси. Ей было шесть, и она уже вовсю болтала. Главным образом о всякой ерунде. Она обреталась в придуманном мире — в раю, где родилась и жила до того, как попала в Роклифф.
В школу она не ходила. Записать-то ее записали, только продержалась она там всего два дня. Я к тому времени уже перешла в среднюю школу. И хотя прежде, чем сесть в свой автобус, я провожала ее в деревню, и целовала на прощанье у школьных ворот, и совала в карман лишнюю конфетку для перемены, она по-прежнему писалась, по-прежнему качалась на стульях, выдергивала себе волосы и кусалась.
Типичное антиобщественное поведение, сказали в школе, отправили Бетси назад, и один из воспитателей отлупил ее. Когда я пришла, она лежала, свернувшись, у себя на койке и походила на яблоко-падалицу: розовые щечки в ссадинах и кровоподтеках. А синяки на ногах выглядели как чешуя у дохлой рыбины. Я спросила ее, когда купала, почему она писает под себя?