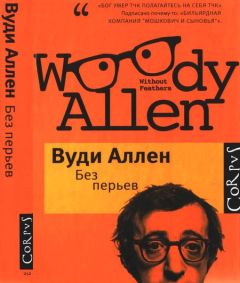Глубокоуважаемый мистер Лазарь!
Во исполнение Вашей любезной просьбы я пишу к Вам, дабы сообщить, что принимаю Ваше великодушное предложение отправиться с Вами на Мадейру.
Нынешние мои обстоятельства и впрямь оказывают пагубное воздействие на мое здоровье; и вот, обдумав положение вещей в свете Вашего предложения, я с немалым удивлением понял, что, хотя аппетит к жизни у меня пропал, мысль о смерти все еще внушает мне отвращение, естественное для человека.
Посему я с удовольствием и благодарностью предвкушаю провести на Мадейре несколько недель в Вашем обществе — за каковой срок надеюсь хотя бы отчасти восстановить свои силы, чтобы продолжить свое тяжелое существование здесь после Вашего возвращения в добрую старую Англию. Ибо в настоящее время, признаться, я слаб, как ребенок, и перспектива нескончаемого физического труда — пусть честного и единственного, каким я могу кормиться, — невыразимо страшит меня.
Итак — на Мадейру! (Этот остров римляне называли Пурпурария, как я сейчас вспомнил, чрезвычайно довольный, что память моя все еще хранит подобные сведения.) Пускай это будет короткая передышка, но зато в высшей степени желанная.
Я должен, однако, попросить у Вас прощения, что осмеливаюсь поставить Вам одно условие. Я не могу и не стану говорить ни о моей прошлой жизни в Англии, ни о причинах, по которым решил погубить себя в ссылке. Это навсегда закрытая книга. В наших беседах нам придется довольствоваться общими материями, представляющими отвлеченный интерес. Если такое условие для Вас приемлемо, я буду ждать от Вас обещанных указаний касательно приготовлений к нашему путешествию.
Засим остаюсь, глубокоуважаемый сэр, искренне Ваш
Э. Горст.
Хотя мне очень хотелось узнать побольше о моем новом спутнике и госте, я не мог не принять его условие. Что бы ни мешало мистеру Горсту вернуться на родные берега и ко всем, кого он покинул там, мне приходилось смириться, что это навсегда останется для меня непостижимой тайной.
III
Продолжение воспоминаний мистера Лазаря
Двумя днями позже, после всех необходимых приготовлений, мы с мистером Горстом отплыли на север, к Мадейре, на бригантине «Белстар».
В первой половине путешествия мой новый товарищ пребывал в задумчивом, молчаливом настроении. Он часами сидел в одиночестве на палубе, уставившись вдаль, но таким странным невидящим взглядом, словно был зачарован совсем другой картиной неба и моря, явленной одному ему.
Ближе к месту назначения мистер Горст внезапно стал оживлен, общителен и снова начал воодушевленно говорить о поразительной мощи Лондона и о том, как он скучает по грязной старой Темзе и мокрым от дождя, шумным улицам. Он спросил, поднимался ли я когда-нибудь на Золотую галерею собора Святого Павла, и я признался, что ни разу, хотя много лет жил рядом с собором.
— Оттуда, даже в пасмурный день, открывается головокружительный вид, — сказал он. — Только не ходите туда один, возьмите с собой кого-нибудь, с кем разделите наслаждение.
Потом мистер Горст с восторгом заговорил о книжных палатках на Лестер-сквер, где он однажды купил знаменитый перевод Плутарха, выполненный Томасом Нортом, от какового счастливого воспоминания он перешел к другому, и к следующему, и к следующему…
Нельзя было не понять, что для человека, столь страстно любившего свою былую столичную жизнь, разлука с ней поистине невыносима. И опять невольно напрашивался вопрос о характере непреодолимых обстоятельств, столь крепко приковывавших моего нового товарища — цепями его собственного изобретения — к образу жизни, разительно отличному от прежнего. Но поскольку я обещал мистеру Горсту не расспрашивать о прошлом, мне приходилось обуздывать свое любопытство — вернее, не столько любопытство, сколько острый интерес, порожденный искренним участием.
Наконец погожим августовским днем, незадолго до полудня, мы при слабом зюйд-весте вошли в фуншалский порт и встали на якорь неподалеку от пристани.
Высоко над городом начинали собираться темные тучи, выплывавшие из-за скалистых гор, и длинные щупальца темносерого тумана расползались по глубоким лесистым ущельям, расходящимся от зубчатых вершин. Но в гавани солнце припекало нам спины, весело сверкали пляшущие волны, и белые домики ослепительно сияли отраженным светом. Ослепительными казались и краски, явившиеся нашим уставшим от моря глазам: яркие цвета олеандров, гортензий, гелиотропов и белоснежное цветение кофейных деревьев; а на востоке — за старыми городскими стенами, ближе к Маунту и Палейро{7} — широкая полоса золотистых зарослей ракитника.
Повернувшись к своему товарищу, стоявшему рядом со мной на баке, я увидел, что он улыбается. Натурально, я поинтересовался, что его развеселило.
— Да так, ничего особенного, — ответил он. — Я просто думал о том, что ваше имя Лазарь, но тем не менее вы воскресили меня, привезя на Мадейру, где, возможно, я снова почувствую себя живым и счастливым, хотя бы ненадолго.
— Что ж, я очень рад способствовать вашему выздоровлению, — сказал я, — ибо вы действительно больны, а здесь всенепременно поправитесь. Местный климат исключительно благотворен, как вы сами убедитесь, и я надеюсь в самом скором времени увидеть вас в добром здравии.
Я говорил весьма уверенно, потому что множество раз наблюдал случаи, когда тяжело больные иностранцы, поселившиеся на острове, навсегда исцелялись от страшных недугов и немощи. Брат моей дорогой жены, мистер Арчибальд Фрейзер, приехал сюда в самом плачевном физическом состоянии после дипломатической миссии в Индии, и по прошествии двух лет вернулся на родину совершенно здоровым.
Пока я рассказывал историю о чудесном исцелении своего шурина благодаря здешнему климату, к бригантине подплыла шлюпка с весело трепещущим на носу португальским двуцветным флагом, где сидели начальник порта, офицер санитарной службы и врач — в обязанности двух последних джентльменов входило выяснять, можно ли выпустить на берег людей с зашедшего в порт судна или же их надлежит поместить под карантин. За ними следом подошла таможенная лодка, а когда все формальности были улажены к удовлетворению всех заинтересованных сторон, мы с мистером Горстом заняли места в ялике, который переправил нас с «Белстара» на сушу.
Мы высадились на берегу, покрытом галькой вперемешку с тонким черным песком, и мой товарищ с минуту стоял неподвижно, глядя на лесистые горные склоны, вздымавшиеся за городком — вернее, полноценным городом, поскольку одним из предметов гордости Фуншала является кафедральный собор Се. Потом он опустился на колени, зачерпнул горсть песка и медленно пропустил его сквозь пальцы.
— Так и моя жизнь, — тихо произнес он, — утекает сквозь пальцы и развеивается ветрами со всех сторон света.
Не знаю, обращался ли он ко мне или разговаривал сам с собой, но я притворился, будто ничего не услышал и, весело похлопав его по спине, воскликнул:
— Добро пожаловать на Мадейру!
Carro de bois{8} уже ждала нас, чтобы отвезти по крутым улочкам и переулкам на нижние склоны Серры. Там, среди густых сосновых и каштановых лесов, стояла скромная quinta, или вилла «Квинтала Пинейро», купленная мной в 1849 году, как рассказывалось в одной из предыдущих глав.
По нашем прибытии я распорядился подать чаю, и в ожидании, когда наш багаж доставят из таможни, мы с моим гостем сидели за беседой на балконе, защищенном от палящего солнца гигантскими листьями древней пальмы.
— Как вы полагаете, вам здесь будет хорошо? — спросил я.
Мистер Горст ответил не сразу, но продолжал задумчиво смотреть в сторону Дезертас, трех необитаемых безводных островов, вздымавшихся над сине-зеленым морем к юго-востоку от Фуншала. Наконец он повернул ко мне узкое загорелое лицо и промолвил с печальной улыбкой:
— Лучше, чем я заслуживаю.
— Бросьте, — возразил я. — Все мы заслуживаем немного удовольствия.
— С вашего позволения, я считаю иначе, — только и ответил он.
Сейчас было бы самое время начать исподволь расспрашивать мистера Горста о прежней жизни и попробовать выяснить, по каким причинам он осудил себя на ссылку в глухом краю, порвав все связи с прошлым; но я дал слово не заводить подобных разговоров, а потому ограничился замечанием общего характера — мол, зачастую мы судим наши поступки суровее, чем они заслуживают, и в любом случае неискупимых грехов нет.
— Хотелось бы мне разделять ваше мнение, — вздохнул он, а потом, не дав мне вставить слово, резко переменил тему, поинтересовавшись, нет ли у меня в доме каких-нибудь английских газет. — Я уже давно не держал в руках английской газеты, — продолжал он. — Единственное развлечение, которое я изредка позволяю себе, когда представляется такая возможность, это чтение устаревших новостей с родины.