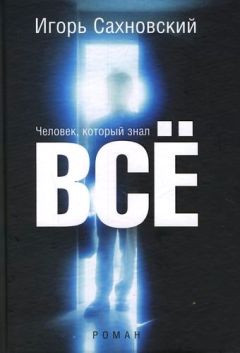И все-таки я остался — не знаю, почему. Застрял на два с лишним часа, чтобы выслушать с открытым ртом сумасшедшую, ни на что не похожую исповедь — и не поверить ни одному слову. Но эти полторы сотни минут и последующий ночной звонок Александра Платоновича ко мне домой фактически решили дело… Если всерьез называть делом составление этой заведомо неправдоподобной книги о Безукладникове, которую я пишу сейчас урывками по вечерам, после работы, подгоняемый договоренностью с шеф-редактором престижного издательства.
Пока он рассказывал, мы съели машинально все до одного Луизины сырники, докурили мой «Честерфилд» и безукладниковский «Парламент», наконец, широким жестом утопили еще одну чайную мышь.
Расставались молча. В прихожей он вдруг вспомнил, что так и не отдал мне долг; сбегал на кухню, громыхнул газовой плитой, вернулся, распечатывая на ходу пачку и отщипывая несколько бумажек с терпеливым породистым Франклином.
…Стоило торопиться домой, чтобы сразу оказаться по уши виноватым.
Она уже собралась уходить и чуть не плакала. Потому что меня носит неизвестно где — она сидит здесь одна, никому не нужная, как дура, готовит на ужин мою любимую рыбу, все давно остыло, телефон молчит, тушь на щеках, и никакой радости в жизни. Да, звонил с работы, предупреждал — и, значит, можно на все наплевать?! Такие надрывные, отчаянные мотивы у нее появились недавно, одновременно с подозрениями на опухоль. Анализы требовали времени, хождения по кабинетам. Неопределенность длилась второй месяц, нарастала, в иные дни виноваты и подозреваемы были все окружающие, особенно я. Любая беда постигается проще, когда есть виновник. С самого начала она вытребовала у меня обещание, что не проболтаюсь ни одной живой душе об ее «уродстве» (так она обзывала болезнь). Слово я сдержал, но она, бедная, и тут пыталась меня в чем-то уличить. Я научился быть безответным и невозмутимым, как глухая тетеря. В тот вечер мы еще немного поборолись за ее кремовое демисезонное пальто, которое она не хотела снимать, желая немедленно уехать к черту на рога в свой спальный район; отпустить ее было невозможно; я заявил, что холодный ужин правильнее всего есть в одетом виде, поэтому я тоже сейчас оденусь. Вот так, в пальто и в куртке, мы с полчаса посидели на кухне. За это время ей расхотелось уезжать, я предложил пофыркать друг на друга в знак сильного недовольства, она согласилась. Пофыркать полезли в ванну, наскоро стряхивая с себя одежду. И в этот момент, когда мы уже стояли голые и мыльные под тугим душем, зазвонил телефон.
— Мы спим. У нас глубокий сон.
— Я принесу.
Она выскользнула из ванной, как рыбка, милым виляющим манером и через три секунды протянула мне верещавшую трубку.
Это был Безукладников, опять на мою голову.
— Простите, ради бога. Знаю, что не вовремя. Совсем забыл сказать.
Я с трудом удержался, чтобы не нагрубить. Еще немного, и он сядет мне на шею.
— Вы скажете, это не мое собачье дело, и будете правы. Но я все-таки хочу вас успокоить. Ей ничего не грозит…
— Кому??
— …Это не опухоль. Это мастопатия. Пройдет само через месяц-полтора. Даже операция не понадобится.
Она стояла рядом, озябшая, с мурашками на шее, на грудях, и смотрела на меня такими страшными глазами, как будто сейчас по телефону ей выносится приговор.
Глава четвертая
ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ
Тот день Безукладников запомнил до ничтожных подробностей.
Выйдя в десять утра из больницы на воздух, он первым делом заново убедился в том, насколько мало окружающая жизнь зависит от его личного существования. Он мог исчезнуть, выпасть, как использованный трамвайный билет из пальцев деловито-рассеянного пассажира, а мог остаться в живых, чтобы форсировать сейчас вот эту лужу на тротуаре, расцвеченную палой листвой, — разница была пренебрежимо легка, словно шелуха от математической дроби, подгоняемая ветром далеко позади запятой…
В трамвае, притулившись у входа, он еще досасывал, как леденец, глуповатую детскую мысль о том, что, если уж в прорве билетного тиража попадается номинально «счастливая» бумажка, ее не рискуют выбросить сразу — не то чтобы в надежде на «счастье», а скорее с оглядкой на скупость и обидчивость фортуны.
Лица пассажиров, казалось, были подернуты одним общим выражением: «Я согласен быть самым обыкновенным». Но ведь каждый, подозревал Безукладников, буквально каждый, будучи подростком, точно знал о себе, что он особый, эгоистично светился этой особостью, ради которой, очевидно, и стоило появляться на свет…
Трамвай тащился еле-еле, и Александр Платонович сошел на одну остановку раньше. Ему хотелось поскорее домой, к дивану, чтобы остаться наедине — что называется, переспать — со своей случайно вернувшейся, новенькой жизнью. В сущности, ее было некуда девать.
Почему-то Безукладников был уверен, что, пользуясь необъявленным отсутствием, его уже уволили с работы. Оставалось лишь удостовериться в этом и ни о чем не жалеть. Он даже не пытался представить, как будет жить дальше, но чувствовал себя в какой-то новой роли, приятно незнакомой. В то же время зеркало магазинной витрины бегло отобразило сомнительного субъекта с потерянным взглядом и забинтованными пястями (ладони, обожженные током, тихонько саднили, а второй свежести бинты, похожие на перчатки с оторванными пальцами, позволяли вообразить некоего разоренного графа, носителя продрогшей чести и вот этих, вчера еще белых перчаток). Витрина все же не отпугнула субъекта — он вошел на минуту в тепло, озаренное люминофорами тридцати с лишним японских телеэкранов, где один и тот же ликующий тенор, утопая в объятиях полуголого кордебалета, грозился моментально умереть от своей несчастной любви, а все никак не умирал.
Двухметровая продавщица с фигурой фотомодели и топорным, плебейским личиком застукала странного, бедно одетого посетителя, когда, переключая каналы на самом большом телевизоре, он уже отправил тенора за кадр и наобум предоставил слово знатной феминистке из породы «могу и пришибить»…
— Что вы трогаете тут своими руками?! — вскипела фотомодель. — Все равно не купите! Больно дорого для вас.
— Разве это дорого?.. — с надменной печалью молвил граф, игнорируя шестизначный ценник. Но руки в бинтах убрал, заметно стушевался и как-то боком вышел из магазина.
В почтовом ящике белели уведомления о просроченной квартплате и неминуемом отключении телефона по вине должника. С телефона Безукладников и решил начать: надо было заново привыкать жить. Но сперва он отлежался на своем диване в сладкой нерушимой прострации — на правом боку в позе зародыша, потом откинувшись на спину, точно усталый пловец, потом опять на правом.
Он проснулся в четвертом часу, покурил на голодный желудок и припал к телефону.
— Раиса Алексеевна, я тут немного приболел, — доложил он секретарше и бессменной подруге начальника.
— Опять простыли? Сейчас все гриппуют… Александр Платоныч, но вам бы лучше подъехать на работу, когда сможете. Вы еще не в курсе? У нас опять сокращение штата. Саш! Только ты не психуй очень! Только не нервничай. В общем, так… Пока никто не слышит. Он тебя увольняет.
Воевать даже не пытайся. Он твою ставку уже прибрал. Правда, гад? Ты еще не знаешь, сколько я от этого кобеля терплю…
— Ах, какое дикое несчастье! — удовлетворенно вздохнул Безукладников и положил трубку.
Сейчас он понял, что нестерпимо нуждается в Ирине.
Чтобы вернуть себя в чувство, ему хватило бы и голоса жены. Только бы она была дома. Ну то есть не дома, а там — на территории Сергея Юрьевича. Она оставляла ему тамошний телефон и просила: «В крайнем случае обязательно звони!» Вроде как служба спасения или дежурная врачиха. «Спасибо. В крайнем случае — все равно не позвоню», — ответил он тогда.
Что она сейчас делает? Пришедшая на ум картинка была изумительно яркой. Он представил Ирину лежащей в ванне, в горячем сугробе мыльной пены, чуть бледную без макияжа, с полузакрытыми глазами — она любила так лежать, иногда подолгу. В воображении Безукладникова жена не изменилась, хотя немного похудела и чересчур коротко остригла негустые русые волосы.
Набирая номер, он волновался так, что путался в цифрах и трижды начинал заново.
— Да. — Она ответила мгновенно, будто ждала звонка.
— Привет. Не помешал?
— Нет… Но я в ванне.
— Я так и думал, что ты в ванне… Какие новости?
— Никаких. Месяц назад ушла с работы. Сижу дома, жарю котлеты. Что у тебя?
Он молчал.
— Что-то случилось??
— Я хочу тебя.
— Повтори! Плохо слышно…
— Я тебя хочу.
Теперь молчала она.
Он впитывал ее молчание, накрепко зажмурясь, будто ждал удара по лицу. Но при этом он видел совершенно отчетливо, как она выгибает поясницу и позволяет гладким подводным животным всплыть из-под пены, подаваясь навстречу узкой полудетской ладони. Там, в ванной, горел яркий свет, усиленный зеркалами, и мокрая белизна блестела под ним, и ужасающе алые, длинные капли ногтей плавно стекали по бедрам, по мыльному лону в жаркий сугроб.