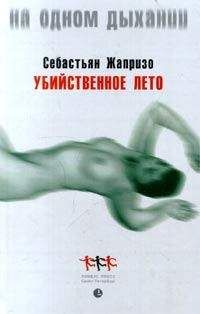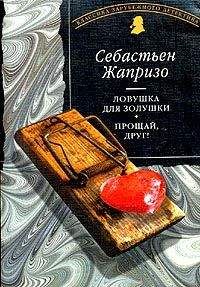Было уже за полночь, когда подъехавший грузовик пробежал фарами по окнам. Ребята смотрели ковбойский фильм с Полом Ньюменом и теперь принялись играть с ружьями, схватив их со стола. Коньята сперва смеялась, а потом испугалась. Она ведь не слышит, а Бу-Бу мастак изображать мертвеца с пулей в животе и выпученными глазами. В конце концов я велел Бу-Бу отправляться умирать в свою постель, а перед тем помочь Коньяте – ей надо помогать, когда она ползет наверх.
Оставшись вдвоем с Микки, я спросил, была ли Эна в кино. Да. Я спросил, уехала ли она с Жоржем Массинем. Опять «да». Но и Ева Браун с ними. Он ждал новых вопросов, но мне оставалось или ничего не спрашивать, или слишком много. И он уложил ружья обратно в шкаф. Я налил ему стакан вина, и мы поговорили об Эдди Мерксе и нашем отце, знатном охотнике. Еще был разговор о Марселе Омоне, певце, которого завтра должны показывать по телеку. Это его любимец. Когда по телеку передают концерт Марселя Омона, за столом нельзя есть, а надо слушать, как в церкви. Я стал хвалить Марселя Омона. Микки ответил: верно, все, что тот делает, – блеск. У Микки это самая высокая оценка. Мариус Трезор и Эдди Меркс тоже блеск, и Мэрилин Монро с ними вместе. Не дурно бы, сказал я, вернуться домой с танцев до начала передачи. На это он ничего не ответил.
Смешной наш Микки. Возможно, наполняя стаканы, я говорил не очень уверенно, но дело не только в этом. Хотя он и выглядит глупым, не надо принимать его за дурачка. Он всегда знает, что вас донимает. Мы помолчали. Потом он сказал, что мне надо только стоять за его спиной, а обо всем остальном он, мол, позаботится. На это я ответил: не хочу, чтобы он клеился ради меня к девушке, я и сам справлюсь не хуже. И тут он произнес очень верную вещь: «Пожалуй. Но на Эну мне ведь наплевать».
На другой день, в то распроклятое воскресенье, мы все трое братцев принимали во дворе душ. Солнце слепило, и мы смеялись над Бу-Бу, который стесняется и потому завертывается в полотенце Вода в колодце круглый год холодная, даже сердце замирает Мы качаем ее в бак, и оттуда она течет без остановки. Привыкнешь, так сойдет за современный комфорт. Микки на велосипеде – пусть тренируется – покатил сделать ставки, а когда вернулся, я уже был одет так, как никогда не одеваюсь, и все они как-то странно поглядели на меня в галстуке.
Вердье должен был на «рено» из пожарки присоединиться ко мне прямо в Блюмэе. Мы же четверо – с нами Жоржетта, подружка Микки, – поехали на легковой «ДС» хозяина. Он одалживает ее, когда я прошу, но всякий раз потом бубнит, что она стала хуже работать. Больше всех удивился, увидев меня в штатском, Вердье. На мне был светлый костюм, голубая сорочка и красный шерстяной галстук Микки. Я объяснил, что приехал с братьями, не успев переодеться. В случае чего моя форма в машине.
Было три часа дня, а вокруг «Бинг-Банга» на большой площади уже все гудело. Я велел Вердье стоять около кассы и заставлять входящих гасить сигареты. По обыкновению, он не задал мне никаких вопросов.
Меня тут знают и не требовали покупать билет, но мне хотелось, чтобы он, как у всех, болтался у меня на пиджаке. Внутри был настоящий ад. Все красное – электрогитары, барабаны, вопящие посетители. Никого не разглядеть, не расслышать. А солнце так раскалило крышу, оставалось если не помереть, то задохнуться. Бу-Бу ощупью отправился искать приятелей. Микки подтолкнул мне Жоржетту, чтобы я потанцевал с ней, и тоже ушел, расталкивая извивающиеся тени. Жоржетта начала крутить бедрами, я не отставал. Бесновался оркестр – пятеро в брюках с бахромой, лицо и грудь разрисованные. Бу-Бу сказал потом, что эти «Апачи» – хорошие ребята.
Я уже невесть сколько топтался на одном месте с Жоржеттой. Музыка сменялась, я весь взмок и боялся одного – что это никогда не кончится. Но прожектора враз погасли, свет стал почти нормальным, и измученные «Апачи» тихо заиграли слоуфокс. Я видел, как девушки и парни с прилипшими ко лбу волосами отходят к стене и садятся прямо на пол, и заметил также, что Микки нашел Эну. Как я и чуял, она приехала с Жоржем Массинем, но мне это было уже безразлично, поверьте.
Она была в очень легком белом платье, волосы и у нее слиплись, и даже с двух десятков шагов я видел, как тяжело она дышит. Может, и глупо, но такой она мне нравилась даже больше, и стало так стыдно и страшно за себя – я едва не ушел. Микки разговаривал с Жоржем. Я достаточно знал своего брата, чтобы догадаться о чем. Сейчас он придумывал разные предлоги, чтобы увести того из зала и дать мне возможность действовать. Вдруг, показав в мою сторону и что-то сказав Эне, он заставил ее посмотреть на меня. И она взглянула в мою сторону. Несколько секунд, не двигаясь, не отворачиваясь. Я даже не заметил, когда Микки увел Жоржа.
Затем она подошла к другим девчонкам, были там две-три из нашей деревни, и они, мне показалось, стали посмеиваться надо мной. Жоржетта спросила, хочу ли я еще танцевать. Я ответил – нет и стал искать, куда бы положить пиджак и галстук. Жоржетта забрала их, и, когда я обернулся, Эна уже стояла передо мной, не улыбаясь, а просто ожидая, – и тут уж неизвестно отчего заранее знаешь, что будет дальше.
Я станцевал с ней один танец, потом другой. Не помню что. Мне было спокойно, потому что я обнимал Эну. Ладошка у нее была влажная, и она часто вытирала ее о подол, а тело было очень горячее. Я спросил, над чем это она смеялась с подругами. Отбросив назад свои черные волосы и задев при этом мою щеку, она не стала крутить с ответом. Уже первые ее слова били как обухом. Оказывается, смеялись, потому что ей не очень-то хотелось танцевать со мной, и еще она так прошлась насчет пожарных, что девчонки животики надорвали. Слово в слово повторяю.
Знаю, мне скажут то, что говорили уже миллион раз: глупых надо беречься еще больше, чем злых, а она, мол, глупа как пень, держись от нее подальше, вся она уже в этих словах, но не в том суть. Вот мне и приходится пускаться в объяснения. На танцах, слыша запрещенные дома словечки, все девчонки ржут как лошади. Притворяются, будто и не такое знают, всякая хочет перещеголять своих подруг. К тому же ведь это я спросил, почему они смеялись. И Эна ответила. Ей ничего не стоило соврать, но она никогда не врала, если это не угрожало ее жизни. Пусть ответ этот был мне не по душе – значит, не следовало спрашивать.
И потом, еще одно, куда важней остального: ее ладошка. Я ненавижу пожимать потные руки даже мимоходом, терпеть не могу. Только не у нее. Я уже сказал, что она вытирала руку о подол платья. Любая другая мне бы при этом просто стала противна. Но не она. Ее влажная рука напоминала мне руку ребенка, которому жарко. Она как бы приближала меня к тому, что я всегда, сам того не зная, любил в ребенке, детях, к тому, что невзначай заставляет вспоминать о самом себе, об отце, о его дряхлом механическом пианино, о том, что я с братьями так и не сходил к зданию Муниципального кредита сыграть там «Пикардийскую розу». Вот именно: нечто такое, что, не имея отношения ни к добру, ни к злу, может привести туда, где я сейчас нахожусь. Вот отчего для всех, кто говорил о ней дурно, уговаривал с ней расстаться, пока не поздно, у меня был один ответ: «Идите-ка вы…»
Я сразу заметил, что у нее не местный выговор. Не такой сильный акцент, как у Евы Браун, но довольно заметный. Я спросил, разговаривает ли она с матерью по-немецки. Эна ответила, что ей не о чем с ней говорить ни по-немецки, ни по-французски. А с отцом тем более. Она была ниже меня ростом – у меня метр восемьдесят четыре, – но для девушки довольно высокая и очень тоненькая. И прижатая ко мне грудь, видная в вырезе белого платья, высокая. Пока мы танцевали, длинные черные волосы закрывали ей лицо, и она их часто отбрасывала назад. Никогда прежде не видел я таких красивых волос. Я спросил, не красит ли она их, и получил в ответ – конечно, это обходится ей в семьдесят пять франков ежемесячно, что появились даже струпья и рано или поздно она подцепит какую-нибудь заразу.
Внезапно прожектора снова завертелись красно-оранжевыми огнями, и «Апачи» опять вышли на тропу войны. В эту самую минуту, сам не зная, слышит она меня или нет, я спросил, не хочется ли ей освежиться. Однако она поняла, слегка приподняла плечико и пошла за мной. У выхода я сказал Вердье, что он может идти потанцевать, я сам побуду на улице. Я произнес это каким-то неестественным голосом, но он понял, что это из-за нее я говорю с ним как сержант. Мне даже стыдно стало. Но он ничего не ответил и ушел.
Мы пробрались сквозь толпу у входа. И пока шли по площади – к кафе, я взял ее за руку. Она не отняла ее, только вытерла о платье и опять вложила в мою. Она пила минеральную с мятой, а я взял пиво. Вокруг говорили о скачках – я проиграл и Коньята тоже, – а она, щурясь, оглядывала зал. Я спросил, не Жоржа ли Массиня она ищет, и услышал в ответ, что она, мол, не замужем за ним.
После духотищи тут было свежо, особенно от прилипшей к спине рубашки. Эна тоже была вся мокрая. Я увидел каплю пота, стекавшую по щеке на шею. Она смахнула ее на пол. У Эны короткий носик и очень белые зубы. Заметив, что я ее разглядываю, она принялась смеяться. Я тоже. И тут она нанесла мне новый удар, сказав, что когда я так смотрю на нее, то похож на идиота и что мог бы, однако, и поговорить с ней.